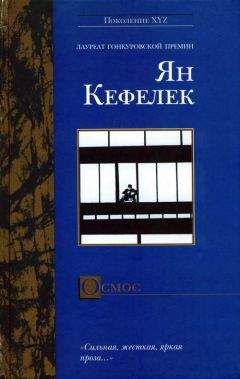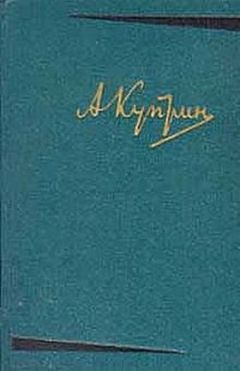IX
Он закрыл глаза, потому что на него нахлынули воспоминания о тех порой комичных, порой уродливых сценах, что разыгрывались между ними, когда Марк, просто по природе своей неспособный говорить с ним так, чтобы его не унизить и не оскорбить, от большой любви растравлял свои раны и требовал от Пьера, чтобы он поступал так, чтобы он, Марк, успокоился хотя бы на время. «Эй ты, хватит хныкать! Давай-ка для начала вытри нос, если хочешь ее вновь увидеть, и научись спать и не писать в кровать. И не приставай ко мне с вопросами! Отвяжись! Забудь о ней!» По словам Марка выходило, что моя мать ушла из дому из-за любви и из-за любви должна и вернуться, но произойдет это только тогда, когда ее сын перестанет вечно звать свою мамочку, если же я не перестану вести себя столь неподобающим образом, то она, пожалуй, найдет себе другого сыночка, который не будет таким занудой и приставалой, как я. И вот тогда, по его словам, могло случиться самое страшное: она могла выбросить ключ от нашего дома, что означало бы, что она действительно больше не вернется, а ведь надежда у нас все же оставалась, так как она захватила ключ с собой, и это было самое главное! Ужасна была безутешная любовь Марка, ужасно было отсутствие матери… Семнадцатого апреля Пьер задул шесть новеньких свечей на пироге, который она испекла; а двадцать седьмого она ушла, и всю ночь его отец то и дело поднимался наверх, чтобы обнять его и поцеловать, и был он холоден, как покойник, и все шептал: «Прости меня, Нелли».
Двадцать восьмого числа Пьер проснулся в полном одиночестве и принялся обследовать дом: он перерыл все вещи в шкафах, на всех полках и во всех ящиках, он тряс занавески и перетряхивал книги, он долго всматривался в заснеженную долину, смотрел на нетронутый, без единого следа снег, он спустился в подвал, добрел до кроличьих клеток, стоявших за домом, вышел на дорогу, где все было белым-бело, и дошел до поворота, а потом отправился на берег реки и оглядел и обшарил все кусты и заросли под деревьями, чьи ветви сгибались под тяжестью налипшего на них снега. В конце концов он вернулся домой, так и не найдя свою мать. Ее не было дома, нет, все еще не было. Но где же она? Где она может быть?
На протяжении первых месяцев он еще убаюкивал себя мечтами о том, что старые добрые времена вот-вот вернутся, он во всем видел хорошие предзнаменования и тем утешался, смягчая боль утраты. Он считал, что непременно все станет как прежде, и все ждал, что дверь вот-вот отворится, и на пороге появится она, что вновь в комнате зазвучит ее голос, что ее нежная рука уберет с его лба непокорную прядку, падавшую на глаза. Он думал, что завтра он, быть может, наверстает упущенное, получит несколько добавочных часов счастья, тех часов, что были потеряны им сегодня, вчера, позавчера… я опять услышу, как позвякивают ее браслеты, мы поедем на мотоцикле за покупками, мы будем ходить загорать на реку, а мой отец будет задавать нам хитрые вопросы в надежде, что мы запутаемся и попадем в ловушку. И он больше не будет будить меня по ночам и спрашивать, что она все же сказала перед уходом, он не будет вскакивать как сумасшедший и бросаться к телефону, и люди у меня за спиной не будут больше перешептываться, словно есть вещи, о которых я не должен знать и о которых я не имею права даже думать. Но все это будет потом… потом… когда она снова будет здесь, когда она вернется…
Но год шел за годом, он справлял день рождения за днем рождения, а она все не возвращалась, ее все не было и не было… могли бы, наверное, погаснуть все свечи на всех пирогах мира, на всех днях рождения, а она так бы и не вернулась…
Семнадцатого апреля он задул семь свечей, вкривь и вкось воткнутых в готовую ромовую бабу, купленную отцом накануне в супермаркете, и внезапно высказал довольно странное предположение по поводу того, что его мать не сидит за столом вместе с ними. «Знаешь, ей надо было присутствовать на другом дне рождения, обязательно надо было, вот она и не смогла прийти. Она непременно придет на следующий год». На следующий год горели восемь свечей, а еще через год в шоколадный мусс были воткнуты девять свечей, и Пьер наконец опять осмелился спросить, почему его мать ушла из дому, хотя и знал, что он, само собой разумеется, по какому-то негласному уговору не должен был задавать этот вопрос, никогда, никогда… Раздраженный, доведенный до белого каления этим вопросом Марк зло бросил: «Без сомнения, она тебя слишком сильно любила». В качестве утешения он выпил стаканчик рома, правда, налил немного и Пьеру. Затем они повторили. «Тебе ее очень не хватает?» — «Мне нравилось, что она спала со мной, было так хорошо». — «Нет, старик, ты кое-что забыл или путаешь, она обычно спала со мной внизу, а к тебе поднималась, когда тебя мучили кошмары или у тебя была высокая температура. А что ты вообще помнишь? Она любила завтракать в постели, как настоящая принцесса… Помнишь?» — «Нет». — «Да, а вот интересно… скажи-ка, какая она была? Блондинка или брюнетка?» — «Блондинка!» — «Да, как же, блондинка… блондинка-то блондинка, только крашеная, а вообще-то волосы у нее были иссиня-черные, как у тебя, ну да, ведь в вас обоих течет испанская кровь…» «Она была довольно высока», — заявил Пьер. «Да нет же, она была маленького росточка, настоящая Дюймовочка, от земли не видать. Но и то правда, что в пятилетнем возрасте все кажется очень большим: и дома, и деревья, и люди, и мама, даже если она и ростом… как говорится, с ноготок… Правда, она все время старалась казаться выше, носила туфли на высоких, нет, высоченных каблуках, кое-где она этими острыми каблуками даже плитку на кухне пробила, если не веришь, можешь сходить и посмотреть. Она очень своеобразно смеялась… да, признаю, у нее был чудесный смех, громкий, звонкий… немного действовавший на нервы, следует признать, если она принималась хохотать, то не могла остановиться. А смеялась она часто, ей многое казалось смешным. Кстати, она бы и тебя нашла ужасно забавным, если бы увидела твой сопливый нос. Постарайся узнать ее в следующую субботу». — «Она придет?» — «Нет, это мы нанесем ей визит». И они отправились в Париж… зашли в какой-то бар… Пьер дремал в дальнем углу полутемного бара, потягивая коктейль, где основу составлял гранатовый сироп и куда для запаха добавили капельку анисового ликера. Он слышал, как вокруг смеялись и перешептывались незнакомые люди. Ему говорили, что он должен вести себя прилично: сидеть и помалкивать, — что он и делал. Когда они вышли из бара, он вдруг увидел освещенную ярким светом Эйфелеву башню, но толком рассмотреть ее не успел, потому что свет внезапно погас. «Знаешь, у нее сегодня было много работы, она не смогла вырваться. Но она обязательно придет на следующий твой день рождения, когда тебе исполнится десять лет».
Он видел ее по ночам… Она являлась ему во сне, и глаза у нее были грустные. Она опять и опять уходила из дому, и он выбегал на улицу… шел снег, он бежал за ней по снегу, догонял ее и приводил обратно домой, заставлял принять горячую ванну. Она говорила, что где-то по дороге потеряла свой рюкзачок, и он снова выбегал на улицу, на холод и искал пропажу на дороге и в конце концов находил на краю ущелья. Она опять уходила, но всегда возвращалась на Рождество и на его дни рождения. Эти дни они проводили как члены нормальной семьи, они пили ром и веселились от души. Она приходила к школе и ждала его после уроков, она несла его ранец, и ему было плевать, блондинка она или брюнетка, он так гордился ею, ведь это была его мать. Однажды ночью он вылез из постели, чтобы нарисовать ее рядом с самолетом. В одну из ночей он узнал ее голос, звонкий и чистый, звучавший где-то вдалеке, и зажег свет, чтобы она не споткнулась о ступеньку на лестнице и не упала. А вот еще был случай, когда он проснулся от тарахтенья мотоцикла, встал, вышел из дому и пошел по дороге… и так дошел почти до самого Лумьоля. По утрам книги, которые когда-то она читала, выглядывали из складок одеяла и простыней… Да, Марк был прав, она была недалеко, совсем недалеко, где-то поблизости, но всегда только поблизости, и никогда ее не было в доме, рядом с Пьером.
О своей двойной ночной жизни Пьер никогда ничего не рассказывал своему отцу. Да, они ходили вместе на рыбалку, на футбол, в киноклуб или просто ходили прошвырнуться по улицам Лумьоля, и когда им навстречу попадались люди, знакомые или незнакомые, Марк шептал ему на ухо: «Будь внимателен! Будь осторожен! Думай, что говоришь! Не болтай лишнего!» А если Пьер допускал какой-нибудь промах, Марк ему выговаривал: «Ты не должен был этого говорить! Ты слишком много говоришь! Молчок! Ни гу-гу!» Это был приказ, и Пьер, когда бывал с отцом, без особого труда держал язык за зубами, потому что уже в этом возрасте осознавал, что сколь настойчиво он ни спрашивал бы, где его мама и когда она придет, ничего хорошего эти расспросы ему не сулили, а принесли бы одни неприятности. Другое дело в школе… Там Пьер вовсе не был таким тихоней, каким был дома, нет, там он был непоседой, восторженным болтунишкой, он без умолку молол всякий вздор, рассказывал такие занимательные истории, что заслушаешься, и чаще всего про свою мать: что она только что вернулась из Испании и что теперь он вот-вот пригласит к себе домой своих друзей, чтобы они с ней познакомились, что она потеряла ключ от их дома в каком-то баре, что ее мотоцикл сломался и что она теперь всегда ходит босиком, чтобы каблуками не попортить плитку на кухне. Свою учительницу он клятвенно заверил в том, что его мать действительно вернулась и что из дому она выходит довольно редко только потому, что боится простудиться.