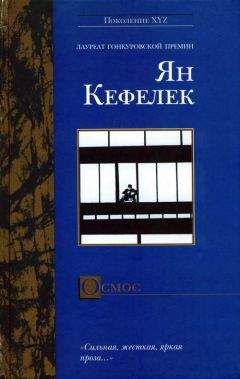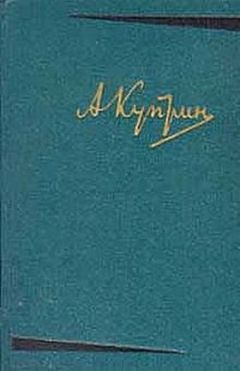Директриса известила Марка, какие разговоры ведет Пьер, и Марк при свидании с ней выказал себя вполне достойным и разумным человеком, очень озабоченным душевным состоянием ребенка. «Ну, вы же понимаете, госпожа директриса… Вы должны быть снисходительны… У ребенка богатое воображение! Бедный малыш! Ему так не хватает матери!» Про себя он решил ограничить это богатое воображение, для чего требовалось немедленно найти какое-то соответствующее случаю «противоядие». Момент был острый и требовал решительных, пусть даже и жестоких мер, но иного выхода он не видел. Итак, вечером он поднялся к Пьеру в комнату, сел на край постели, прочитал ему несколько страниц из бесконечного романа, приласкал, а потом с крайне взволнованным и опечаленным видом сообщил ему грустную новость, которая стала следствием его глупой болтовни в школе. «Да, так вот, тебя поместят в другую семью». — «Поместят? Как это, поместят?» — «Да вот так. Возьмут и отдадут в другую семью, в другой город, даже в другой департамент. Я даже не знаю, куда именно. По этому поводу принято судебное решение, и мы с тобой больше не увидимся». Пьер задрожал, как в лихорадке, он начал задыхаться; у него был настоящий нервный припадок, и Марку пришлось постараться изо всех сил, чтобы убедить его в том, что ничего еще не решено окончательно, что все еще можно уладить, если он захочет. Но и спустя несколько часов ребенок продолжал дрожать, как осиновый лист. «Ты слишком много болтал, — говорил Пьеру его отец, ласково поглаживая по голове. — Тебе ведь прекрасно известно, что твоя мать так и не вернулась домой. Ты, оказывается, врунишка, малыш». При свете ночника он внушал Пьеру шепотом: «Люди, желающие нам добра, иногда, сами того не ведая, причиняют зло. Когда женщина-мать покидает домашний очаг, уходит из семьи, членам этой семьи надо быть начеку, надо держать ухо востро, потому что власти начинают придираться к ним по мелочам. Школьная учительница может вообразить, что ребенок в такой семье несчастен, и уже не важно, правильно ли она рассудила или ошиблась. Что она делает в таком случае? Она ставит в известность власти… представителей властей… Ты ничего об этом не знаешь, да и никто не знает… А дело завертелось… А что делает полиция? Легавые звонят в дверь, они входят в дом, они говорят: „Добрый вечер, дамы и господа“, а потом они забирают ребенка, и все кончено. И нет больше семьи. У ребенка был отец, у отца был ребенок, теперь у ребенка нет отца, у отца — ребенка, но все это делается ради блага ребенка. Теоретически подобная мера является мерой временной, но мне что-то не приходит на ум ни один пример, когда бы ребенка вернули в родной дом. Все дело в том, что и дома-то и самой семьи больше нет. Ведь не думаешь же ты, что после такого налета и такого разорения домашнего очага все можно исправить, сделать как было и начать по новой… Несчастный отец, лишившийся ребенка, начинает здорово пить, сходит с ума от горя, он теряет работу, и у него в кармане нет ни единого су, чтобы вести борьбу с законом и отвоевать свое право воспитывать ребенка». Марк рассказывал свою жуткую, жалостную историю, действовавшую на Пьера как опаснейший яд, тихим голосом, пристально следя за реакцией буквально не сводившего с него глаз мальчика. «Для государства во всем этом деле есть свой интерес, потому что таким образом оно обеспечивает деятельность сиротских приютов и лечебниц для сумасшедших, так что кое-кто имеет неплохой доход и не собирается его терять». Марк выдержал паузу и приложил к губам Пьера палец, после чего погасил свет, не говоря ни слова, потому что он видел, что призывать Пьера хранить молчание уже не было нужды. На язык Пьера словно уселся ядовитый скорпион, и так и застыл, так что Пьер понял, что в будущем надо уметь усмирять свое воображение, что он и делал. Вплоть до того дня, когда научился писать.
В десять лет он задул свечи на шарлотке со смородиной и, выпив стакан газировки, слегка подкрашенной капелькой рома, с облегчением сказал: «Я должен признаться, что очень боялся. Какое-то время я действительно думал, что она вот-вот вернется».
«Ну, она бы сначала позвонила, малыш». — «Да нет, не скажи… ведь сбежала-то она без предупреждения, так что и вернуться бы могла неожиданно». Пьер мог сколько угодно хохотать, сколько угодно кормить себя сказками о том, как бы она была неприятно поражена и какой бы приступ ревнивой злобы испытала, если бы увидела, как они счастливо живут, как им хорошо вдвоем с отцом и как они веселятся, он мог хоть обожраться этими россказнями, но она так и не приехала ни с предупреждением, ни без предупреждения. Он поднялся к себе наверх полубольным и улегся на полу под окном, где, по его мнению, она не могла его сразу найти, потому что привыкла его искать на кровати. Да, там уж она не застанет его врасплох! Как только во снах она приближалась к нему или только хотела приблизиться, он сжимал кулачки и кричал ей прямо в лицо: «Уходи, я не люблю тебя! Уходи!» Наконец она на время оставила его в покое, перестала ему докучать своими неожиданными появлениями. Вплоть до того дня, когда он научился писать…
В школе он избегал одноклассников, сторонился их и дичился, он замкнулся в себе, был пассивен на уроках, не поднимал палец, то есть не выказывал готовность ответить на вопрос учителя. Он больше не был тем всезнайкой, кто больше всех трещал на уроках без умолку и во все совал свой носишко, он всегда торопился поскорее уйти из школы, поскорее вернуться домой. По окончании четверти в его дневнике появилась запись: «Слишком погружен в свои мысли или мечты, рассеян, невнимателен». Марк снова насторожился, даже, пожалуй, еще больше, чем прежде. Какие подозрения роились в голове этого мальчишки? В чем он не смел признаться, быть может, даже самому себе? Какие невысказанные мысли таились в его голове, какие слова не смогли сорваться с этих словно зашитых намертво губ? О чем он думал, когда их взгляды встречались и у Марка возникало такое ощущение, будто от всепроникающего взгляда Пьера ничто не могло укрыться?
«Эй, где ты витаешь?» — спрашивал его Марк. «Нигде… просто хочу спать», — отвечал Пьер. Но о чем он думал в тот момент, когда книга вываливалась у него из рук и он проваливался в сон, как в бездну? Порой Пьер просыпался среди ночи от щелчка выключателя и сквозь чуть приоткрытые веки видел, как его отец ходит взад-вперед по комнате, как он открывает его портфель, перелистывает тетради и книги, вытряхивает и выворачивает карманы его штанов и куртки, как он волнуется и тяжело вздыхает. Пьер чувствовал себя неловко, он был смущен, как будто это не его отец устроил у него в комнате обыск, а как будто он шпионил, подглядывал за отцом. Разумеется, у его отца были веские причины для того, чтобы «инспектировать» его вещи. Так, наверное, всегда бывает, когда ребенок либо слишком разговорчив, либо, наоборот, слишком молчалив.
Марк призвал на помощь старый педагогический прием, чтобы побольше узнать о тайных помыслах Пьера. Он купил ему тетрадь, в которую тот должен был записывать все, что ему приходило в голову, хотя бы по одной фразе в день. И Пьер подчинился, он покорно делал записи, нечто вроде: От твоей собаки воняет, ты должен чистить ей зубы, потому что у нее ужасно несет из пасти, быть может, у нее, как у людей, кариес. Я тебе уже не раз говорил, что не люблю кровяную колбасу, она слишком острая и от нее язык огнем горит. Купи мне новые ролики, а то я больше не буду застилать твою кровать.
Подчиняясь инстинктивному чувству самосохранения, подобно тому, что заставляет бобра строить плотины и запруды, он возвел крепостную стену между собой и окружающим миром, стену из нескольких фраз, он отгородился от внешнего мира и оказался внутри замкнутого круга, где он мог приспособиться к тайне слов, так волновавших и смущавших его, когда он читал. И так все и шло потихоньку, но в конце марта вместо обычной вполне нейтральной ежедневной фразы и смешных рисунков, кое-как нацарапанных по углам страниц, в тетради появился цветной рисунок на всю страницу, на котором в полнейшем беспорядке расположились летающие птицы, не то засохшие, не то сгоревшие деревья, чьи-то руки, какие-то предметы, бутылки, расчески, противогаз, кухонный нож и в довершение всего еще и огромный язык и два выпученных глаза, в которых были видны кроваво-красные прожилки; в центре находилась черная круглая бомба, «снабженная» табличкой, на которой можно было прочесть слово «БУМ!». «И что же это значит?» — спросил Марк. «Это весна». «Да, ну и весна… Не иначе как Пражская весна… Завтра ты должен будешь все это как-то объяснить, хотя бы в нескольких словах». Пьер так и не смог толком объяснить, не смог сказать, почему изобразил на листе бумаги такие несочетающиеся вещи, откуда у него родились эти образы, ибо под пеплом его чувств и воспоминаний вызревали и росли новые чувства и воспоминания.
В одиннадцать лет он впервые съел настоящее пирожное с кремом и почти опьянел от такой вкуснятины, а также и от рома, которого ему налили в стакан с водой чуть больше, чем прежде. Это был такой чудесный вечер, каких у Пьера давно не было! Они с отцом рассказывали друг другу всякие забавные истории, играли в шарады. Пьер даже пел. Марк, видя рядом сияющую, лучащуюся счастьем мордашку сына, был несколько смущен, но все же решил воспользоваться случаем и постарался как можно осторожнее сделать одно очень важное признание… Итак, он сказал Пьеру, что всегда сомневался в том, что Нелли вернется, потому что ей слишком стыдно за свой поступок. «А теперь и вовсе все кончено, малыш, потому что у нее есть другой ребенок». «Ну и что? — изумился Пьер. — Она может привезти его с собой». «Ну, видишь ли, надо еще, чтобы она этого захотела». «Хм… но ведь надо, чтобы и мы этого захотели». В конце концов было принято совместное решение забыть о ней, и Пьер легко с этим вроде бы смирился. Его мать была для него теперь чем-то ирреальным, она была какой-то детской выдумкой, ребячеством… Слишком часто ему казалось, что он ее уже видит рядом, и слишком часто он испытывал разочарование. «Да, малыш, ты-то воображал, что она здесь, рядом, стоит только протянуть руку, и ты сможешь к ней прикоснуться! Но это так глупо, малыш!» Он слишком долго ждал, слишком часто торопливо рвал конверты, на скорую руку заклеенные девчонкой с почты, не умевшей спрягать глагол «быть»; он читал вывалившиеся из них письма в надежде, что одно из них будет от нее… и всегда обманывался в своих надеждах.