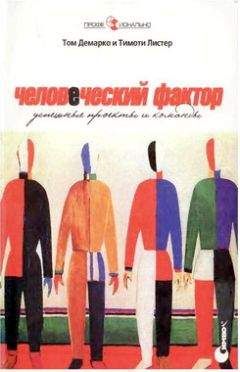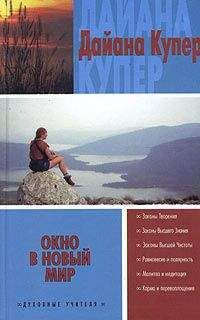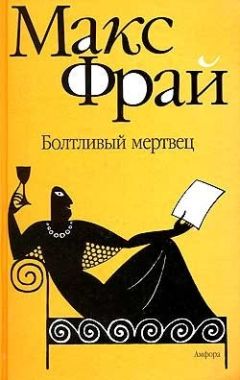Но когда Моника сняла с себя трусики и растерянно огляделась в поисках кровати, Феликс вдруг закричала:
– Каспар, перестань! Прекрати! Это уже не смешно!
Ее неожиданная вспышка страха сбила мою концентрацию, и я с ужасом понял, что пассы, которые я столько раз отрабатывал перед зеркалом, не выводят Монику из транса. Она неуверенно продвигалась вперед в своем слепом поиске несуществующей кровати, и мне приходилось пятиться, чтобы она не наткнулась на меня. Наконец, мне удалось ее разбудить, и когда Моника очнулась и поняла, что случилось, она закричала и, подхватив с пола свою одежду, убежала в направлении женской уборной.
Грудь и бедра Моники являли собой зрелище поистине восхитительное, и все начиналось как совершенно безвредная невинная забава, а вот закончилось гадко. У меня было скверное, тягостное ощущение, что я неумышленно откупорил сосуд беззаконий.
Как бы там ни было, Моника ушла из «Серапионовых братьев», и виноват в этом я. Время от времени мы с ней встречались, потому что, покинув братство, она примкнула к другому объединению сюрреалистов, к так называемой группе из Блэк-хита. Она сблизилась с Чарльзом Мэджем, Роландом Пенроузом и Хамфри Дженнингсом, и до нас доходили слухи, что она принимает активное участие в проекте «Наблюдения масс». По словам Дженнингса (который, кстати сказать, перевел на английский Поля Элюара), «Наблюдение масс» было призвано выявить «глубины английского коллективного бессознательного». Участники проекта – а их было несколько сотен, если не несколько тысяч – наблюдали за тем, как ведут себя люди в самых разных жизненных ситуациях, причем объектом внимания могло стать, что угодно, «поведение людей у памятников жертвам войны, выкрики и жестикуляция автомобилистов, культ домашних растений, антропология футбольного тотализатора, поведение людей в общественных уборных», и т.д., и т.п. Предполагалось, что данные наблюдения – в корне отличные от методов литературной элиты, – позволяют проникнуть в подлинную структуру английской жизни.. Рабочему классу впервые будет представлена его собственная культура. Как и Лотреамон с Элюаром, Дженнингс был убежден, что «Поэзия должна твориться всеми, а не одиночками». Нед поначалу отнесся к «Наблюдению масс» с большим недоверием, но… Впрочем, я снова отвлекся.
Была уже середина декабря. Я с нетерпением ждал новогоднего вечера, когда мы с Кэролайн пойдем на Бал. Время от времени мы с ней встречались. Я всегда приходил на свидания с букетом роз. Почему именно с розами? Потому что это были единственные цветы, название которых я знал и мог без стеснения спросить в магазине. Помимо прочего, мы с Кэролайн обсуждали свои костюмы. Я решил нарядиться графом Калиостро и договорился со знакомыми из театра, чтобы взять костюм там, но Кэролайн, которая выбрала для себя образ Марии Антуанетты, шила платье сама. Судя по описаниям, это было истинное чудо инженерно-портновской мысли – сложная конструкция из кринолина на обручах, оборок, рюшей и многослойных нижних юбок. Я не знаю, как она все успевала: работа, репетиции в любительском театре, изготовление костюма, -и при этом она была бодрой, веселой и полной сил. Я же, наоборот, ничего не делал, но при этом ходил весь уставший, замотанный и озабоченный.
И вот, наконец, наступил Новый год, долгожданная ночь, которой закончился один плохой год и начался следующий, оказавшийся еще хуже. До войны Бал искусств в Челси считался главным событием года. Может быть, он остается таким до сих пор – я не знаю. На входе в Алберт-Холл, где дежурили репортеры из «Pathe» и «Movietone», Кэролайн царственным жестом сбросила пальто мне на руки, явив нацеленным на нее фотокамерам умопомрачительный кринолин – настоящее произведение искусства из белой, розовой и голубой материи. Как оказалось, у каждой оборки и рюшки, у каждой ленты, у каждого буфа и банта было свое назначение. Кэролайн очень подробно мне все разъяснила. Она прикрепила на туфли пряжки, чтобы придать им старинный вид. Она была возбуждена, ее щеки горели лихорадочным румянцем – хотя, может быть, это был просто такой эффект, создаваемый густым слоем румян. С таким макияжем «под старину» и с высркой напудренной прической она казалась гораздо старше и была похожа на опытную куртизанку с длинным послужным списком опасных связей. У меня до сих пор сохранилась одна фотография с этого бала, снятая штатным «бальным» фотографом. На ней Кэролайн выглядит почти зловеще. На самом деле, мы оба выглядели слегка странно. По периметру бального зала стояли миниатюрные беседки и павильоны, а сам зал был заполнен английскими, французскими, русскими и венецианскими аристократами в напудренных париках. Были там и гренадеры, и разбойники с большой дороги, и их подружки, и молочницы, и бандиты, и санкюлоты, и персонажи итальянской комедии масок. Многие пришли в полумасках, и в этом была своя прелесть: глаза в прорезях масок казались ярче, а улыбки под ними – острее и тоньше.
В ту ночь на балу играли сначала Джек Хилтон со своим оркестром, потом – Амброуз. Было так странно наблюдать за людьми в париках и шелках, одетых для менуэта, но танцующих под «Night and Day» и «Begin the Beguine». Кэролайн танцевала со мной, вся такая податливая и мягкая, и я не смог удержаться, и когда она положила голову мне на плечо, мои руки принялись алчно обшаривать ее тело: лиф платья, корсаж, безнадежно непроницаемый кринолин, – и поначалу она как будто не возражала, но потом отстранилась, оборвав танец на середине.
Мы вышли из бального зала и уселись в маленькой гостиной. Когда я убедился, что Кэролайн больше не сердится, я сказал:
– Кэролайн, мне нужно сказать тебе одну вещь. – Да?
– Я много думал о том, что ты мне сказала: что я странный, и что картины, которые я пишу, лишены всякого смысла, и что я живу в отрыве от реальности, – я много думал об этом и решил порвать с сюрреализмом. Я собираюсь устроиться на работу. Думаю, я смогу получить должность художника-оформителя на почте, или в метро, или еще где-нибудь. У меня будет нормальная работа и постоянный доход. Как тебе такой вариант?
– Ты это делаешь ради меня?
– Да, ради тебя.
– О, Каспар! Но ведь это смешно. Я не хочу, чтобы ты чем-то жертвовал ради меня. Я хочу только, чтобы ты был собой. Настоящим собой.
– Я хочу быть таким, каким тебе хочется меня видеть, – ответил я.
Но Кэролайн, кажется, было неинтересно. Она смотрела куда-то в сторону, словно меня вообще не было рядом. Словно все ее мысли были заняты чем-то другим – или кем-то другим. И я вдруг понял, в чем дело. И мне стало плохо. Когда я задал ей вопрос, чтобы подтвердить это внезапное прозрение, мой голос заметно дрожал, и я сам себя ненавидел за это:
– Кэролайн, у тебя есть другой?
Она кивнула и опустила голову. Ей было стыдно смотреть мне в глаза.
– Но кто? Почему? Ты должна мне рассказать. Она вздохнула. А потом:
– Клайв.
– Так, давай еще раз. Кто?
– Клайв Джеркин. Ты, может быть, его помнишь. Когда мы ходили на Трафальгарскую площадь с Шейлой Легге и всеми, он подошел ко мне и попросил объяснить, что происходит, а потом пригласил в кафе, но я отказалась. Я про него совершенно забыла, а потом, через пару недель, мы с ним встретились в поезде в метро, совершенно случайно, и поговорили о сюрреализме, и еще о моей работе, а потом оказалось, что он тоже живет в Патни, и он что-то такое обмолвился, что там совершенно нечего делать по вечерам, и я рассказала ему о нашем любительском театре. Я вышла на своей остановке, и потом даже не вспоминала про эту встречу. Но мы встретились снова. И где, ты думаешь? В нашем театре. Он тоже записался в студию. И сейчас мы играем в одном спектакле. Я играю Банти Мейнуоринг, а он – Ники Ланкастера, моего жениха. Он хороший актер. Он недавно купил машину – по-моему, дорогую машину, – и иногда он подвозит меня на работу. А один раз мы ездили в Хенлей, кататься на лодках.
– Клайв Джеркин – глупое имя.
– Правда, Каспар?
– А какой он вообще… ну, кроме того, что хороший актер?
С моей стороны это было не праздное любопытство, поскольку я был слегка не в себе и ухватился за бредовую мысль, что если она любит Клайва, мне нужно как можно больше о нем узнать, выяснить все плоть до мельчайших подробностей и стать точно таким же, как он – только лучше.
Теперь, когда Кэролайн уже могла говорить о нем, не таясь -об этом мужчине, которого она любила, – она снова нашла в себе силы посмотреть мне в глаза.
– Он очень хороший. Я думаю, он бы тебе понравился. Черта с два, сказал я про себя. Он мне понравится только
в гробу. Хороший Клайв – мертвый Клайв. Но вслух я, конечно же, этого не сказал. Я лишь спросил будничным тоном, как бы между прочим:
– А чем он занимается?
– Он посредник по каким-то продажам. Работает в каком-то агентстве, – рассеянно проговорила она. – Он хорошо зарабатывает на процентах и говорит, что к тридцати собирается стать миллионером. Хотя деньги для него – не главное. Он хороший актер, я уже говорила. И еще он замечательный музыкант. Играет на пианино и на фаготе. И еще он играет в крикет. Какое-то время даже выступал за команду графства. Его мама и сестры его обожают.