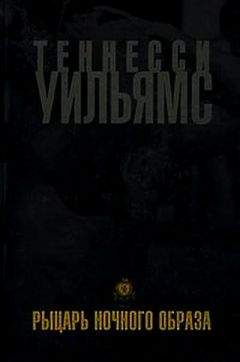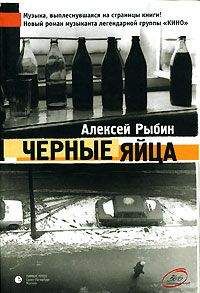Именно в этот момент высокая худая фигура вынырнула из тумана на Бликер-стрит, и это была Моизи, все еще в своем прозрачном одеянии.
— Дикари, что вы делаете с моим братом? — потребовала она ответа голосом таких вокальных данных, каких я в ней и не подозревал.
Второй полицейский выскочил из автомобиля и подошел к призрачной фигуре.
— Что вы такое?
— Я еще «кто», а не «что». А вы — две обезьяны на общественной службе, тогда как я не просто член этого общества, а человек с высочайшими связями.
Через улицу осветилось окно; показалось лицо пожилой женщины.
— Леди, леди, — позвал я, но ответом были закрывшееся окно и выключенный свет.
Полицейские взглянули друг на друга. Один кивнул, другой покачал головой.
Тот, кто кивнул, заговорил насмешливо-вежливым голосом:
— Как вы и ваш братец относитесь к небольшой поездке тут неподалеку, мисс?
— Моизи, из окна выглядывала свидетельница.
— Нет никакой необходимости, — сказала Моизи, — я позвонила в Центральное Управление полиции, прежде чем вышла из дома.
Копы пошептались немного, потом один из них громко сказал:
— Завязываем дурачиться с этой парочкой.
Один полицейский освободил мои щиколотки, а второй в это время пытался продемонстрировать Моизи свое либидо.
Я услышал громкий звук пощечины.
— Сопротивляюсь. Непристойностям.
— Черт, уже утро, поехали.
Хлопанье дверей, рев заводящегося мотора.
Мы остались на углу одни.
— Господи Боже.
— Что?
— Я потерял портрет Лэнса.
— У меня есть его копии.
Она собрала мое литературное богатство, разбросанное полицейскими по улице.
— Откуда ты узнала, что здесь происходит, Моизи?
— Таинственно, но просто.
(Может, позже она объяснит.)
Отсутствие и часов, и будильника не устраняет моего беспокойства по поводу хода времени: скорее, оно усиливает его. Зимний свет, пропускаемый большим окном в черной стене — единственный здесь хранитель времени, и у Моизи я ловлю себя на том, что снова и снова смотрю на него, чтобы понять, который час, но окно сплошь покрыто изморозью, и свою функцию хранителя времени выполняет из рук вон плохо. Почему оно так замерзло, я не знаю — у Моизи нет никакого отопления, кроме моего жара, моего страха и ее спокойного живого присутствия.
Я боюсь, несмотря на буддистский покой Моизи. Я еще не примирился с уходом из существования — даже вместе с ней. Я пытаюсь завязать разговор, но ее ответы или неслышны, или односложны. Я знаю, что она предпочитает мое присутствие полному одиночеству за пределами мира рассудка (или безрассудства), но помалкивает, не находясь в состоянии ступора, а как будто ожидая приговора да или нет, и не хочет, чтобы мои попытки вовлечь ее в разговор отвлекли ее от этого пассивного ожидания. Она сидит на краешке кровати, как могло бы сидеть женское божество, и даже не глядит на замерзшее окно, совершенно не разделяя моего беспокойства по поводу хода времени.
Лэнс посоветовал бы мне заткнуться, но так как Лэнса давно уже нет — ни в этой комнате, ни в какой другой, его замечаний тоже давно уже нет, и я продолжаю выманивать Моизи из ее холодной тишины.
— Моизи?
— Да? Что на этот раз?
— Ты не поговоришь со мной? Мы сидим с тобой, как сидят чужие в зале ожидания на вокзале.
— А разве не так же сидят все, кто сидит все равно где и все равно с кем?
— Нет. Так никогда не бывало, когда Лэнс…
— Когда Лэнс, когда Лэнс, это как во времена рыцарей — так далеко от современной жизни.
— Я знаю, но я надеялся, что когда ты снова пустишь меня в свою комнату, мы будем хоть немного общаться — хотя бы знаками или взглядами, но ты сидишь, полностью погруженная в свои мысли, ты далека, как Гималаи для путешественника без паспорта или без средств передвижения.
— Хорошо, я прерву свое молчание и скажу тебе кое-что. В твоем характере после ухода Лэнса и появления твоего шныряющего кругом конского хвоста появилось что-то дешевое, такое немного уцененное. Должна тебе сказать, что у вас, писателей, людей с литературного факультета, слова, фразы, слоганы, лозунги замещают простые истинные чувства. Вставите пару слов в нужное, как, вам кажется, место, и уже считаете себя свободными от настоящих переживаний.
(До этого взрыва ее эмоций я не осознавал, что Моизи в своем импровизированном прозрачном платье не обнаруживала никаких телесных проявлений или умственного оживления, как будто у нее отсутствовали все признаки жизни: она дышала без звуков или видимых движений груди, а если ее веки трепетали, то незаметно. Теперь я понял, что мои чувства по сравнению с бурей ее эмоций могли показаться абсолютным спокойствием.)
— Это совсем на тебя не похоже.
Ее ответом был вульгаризм, который она никогда до этого не использовала, по крайней мере, при мне. Вульгаризмы как в словах, так и в действиях, казалось, находились за пределами сферы ее компетенции, они, казалось, принадлежали миру за дверью на Бликер-стрит, несмотря на признания, сделанные предыдущим вечером, по поводу «противоестественных отношений» с патроном «восьмидесяти семи лет в Белвью».
— Ебать вас, писак, в рот.
— Почему?
— Вы хоть когда-нибудь сбрасываете свои шкуры, свою крокодилову кожу, чтобы можно было увидеть вас самих, а не ваши умничанья: бла-бла-бла? Вы не видите жизни из-за ваших жизней, воняющих до небес. Можешь записать это в свою «голубую сойку».
— Моизи, я тебя не узнаю.
— Ты думал, я вся такая сложная, а я обыкновенный дикарь. Ты говоришь, я думаю — я ничего не думаю. Думать — значит размышлять, бороться с какими-то проблемами, а я этого не делаю. Что я делаю — так это рефлектирую, а рефлектировать — это знать то, что не содержит проблем, потому не имеет и решений — никаких — а только набор условий, нарушить которые может только время и смерть — окончательный предел времени, и не используй слово «семантика», не бросай в меня это ебаное слово, а то я буду знать, что ты похож на того ужасного рыжебородого профессора из Нью-Йоркского университета, который даже Мэри Маккарти[29] уронил, как раскаленный камень.
— По крайней мере, я буду знать предмет твоих рефлексий.
— Знать-то ты будешь, но, думаю, пожалеешь об этом. Я размышляла о том, что в этом городе старые карги встречаются на каждом шагу.
Вот так.
Моя природная хитрость подсказывала мне не заметить слово «карги», а что касается ее рефлектирования по поводу того, что их в городе огромное количество, то это было очень любопытно, потому что хотя сама Моизи была вне времени, назвать старой ее было никак нельзя.
— Что такое «карги», Моизи?
— Посмотри в словаре, — ответила она резко.
— Прекрасно, где словарь?
— Если он есть, то он…
Она показала на шкаф, встроенный в противоположную стену. В нем была собрана любопытная смесь всяких «находок» и прочего хлама, самым заметным из которого был «Кто есть кто» за 1952 год.
— Почему ты хранишь экземпляр за 1952 год? — спросил я ее.
— Потому что в 1952 году одна светская дама, которую я встретила случайно в Центральном парке, познакомилась со мной и захотела, чтобы я послужила ей моделью — она была портретистка-любительница, несчастная старуха без всякого таланта, но с многолетним академическим образованием, страдающая от злокачественной опухоли, на счет которой доктора врали ей, что у нее все в порядке, за исключением швов после последней операции. Ни к селу, ни к городу. Она на несколько недель приняла меня под крыло своего огромного богатства — это важная деталь — и однажды сказала мне: «Я хочу устроить прием в твою честь, нечто вроде дебюта, вот, посмотри эту книгу и выбери по ней тех гостей, кого бы ты хотела». И она дала мне этот «Кто есть кто» за 1952 год. Так случилось, что у меня была родственница по фамилии Коффин, которая обнаружилась и в этой книжке, но эта родственница страдала хронической меланхолией, она накупила на двести тысяч долларов бельгийских кружев во время особо сильного приступа меланхолии и никуда не убрала эти свои кружева — никто не смел к ним даже притронуться, за исключением тучи моли, которая почти полностью их съела. Я позвонила этой своей родственнице Коффин — оказалось, что ее состояние сейчас на стадии улучшения, и она приняла приглашение на прием по случаю дебюта. Я осмелилась также пригласить моих близких друзей — не из «Кто есть кто» за 1952 год, а из списков активистов подрывной деятельности и списков получающих социальную помощь. Родственница Коффин так и не оправилась от этого приема и леди с Парк-авеню — тоже, врача вызвали слишком поздно, и она умерла в лифте своего двухэтажного пентхауза. «Кто есть кто» за 1952 год я храню как память об ее кратком покровительстве, милый мой. Так, что ты там взял?