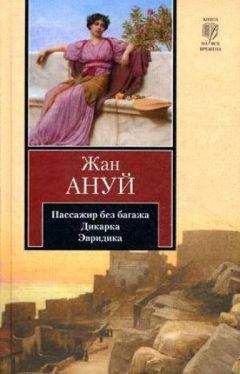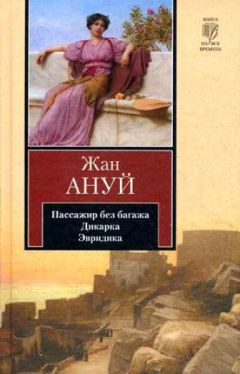Объевшись дыней, засыпаю, уронив голову на стол. Просыпаюсь уже в девятом часу. Вытряхиваю косточки из волос, переодеваюсь в одежду, приличествующую учительнице, чищу покрытые начетом зубы. Несусь сломя голову по коридору по направлению к моей классной комнате, когда из-за угла выруливает мадам Ватанабе. Она тоже бежит, тем самым способом, что японские женщины отточили до идеального совершенства: верхняя часть тела неподвижна и пряма — смотрите, я вовсе и не бегу! — а ступни и лодыжки так и мелькают, точно лапы пресловутого песика на футуристической картине. Она тормозит — причем беднягу слегка заносит — и кланяется.
— Ваш класс ждать-ждать.
— Спасибо вам большое, что приглядели за моими ученицами, мадам Ватанабе. Я задержалась.
Она поправляет пук черных волос, сползший на один глаз.
— Задержка для учениц «Чистых сердец» не есть хорошо. Учитель подавай пример. Не плохой пример. Хороший пример.
— Меня задержал мистер Аракава. — Некая толика правды в этом есть. Аракава вызывал меня в пятницу перед началом занятий — тогда я тоже опоздала.
— О, Аракава-сан. — Мадам Ватанабе кланяется так низко, что рукава ее блестящего черного платья — нечто среднее между шелковым парашютом и мусорным мешком — касаются оранжево-розового ковра на полу. — Он вам говорить, что вы делывать неправильно?
— Не то чтобы.
— Новая учительница необходим руководство, всегда руководство, особенно учительница гайдзин, которая японского обычая не разуметь.
— Мистер Аракава сказал, что очень мною доволен. Мадам Ватанабе улыбается.
— Очень вежливый человек, Аракава-сан.
— Он спрашивал, не возьмусь ли я подготовить со своими ученицами небольшое музыкальное шоу. Что-нибудь на английском, для школы, не для широкой публики.
— А. — Улыбка растягивает лицо мадам Ватанабе, деформирует его до неузнаваемости, бледные десны настолько скошены назад, что крупные лошадиные зубы повисают на самых кончиках корней. — Меня он просить то же самое. Какой шоу вы ставить? С шестерьмя девочки много не поставишь, держу пари. «Звукомузыки»? Нет, слишком большой. «Окрахома»? Тоже не есть хорошо. Что вы делать?
Хрена лысого я знаю. Я как раз собиралась пораскинуть мозгами на уик-энде, да вот Оро вмешался.
– Секрет, — улыбаюсь я. — Нечто совершенно оригинальное.
— Оригинальное. — Это понятие ей явно не по силам. — Вы писать музыка, слова, стихи, все? Вы очень талант. — Она поворачивается идти.
— Не одна я. Мы с моими ученицами будем все делать вместе. Вы знаете, они такие творческие натуры.
— Творческие, — фыркает она. — Они тут не творить, они тут учиться.
Я безмятежно проплываю мимо нее.
— Мы учимся через творчество, мадам Ватанабе. — Она бурчит себе под нос нечто неразборчивое. Я оборачиваюсь. — Что такое?
Она приглаживает блестящее платье черными наманикюренными когтями.
— Труппа «Воображаемый театр», Торонто. Это вы так творить?
Ноги мои прирастают к полу.
— Ну да.
— Я звонить в справочная служба Торонто. Нет номера «Воображаемый театр».
Вот злобная тварь.
— Мы на рекреации.
— Что это быть?
— Ну, у нас перерыв. Иссяк источник финансирования, поэтому нам пришлось временно закрыть офис.
Некую часть меня так и подмывает заорать: «Никакого телефона нет и быть не может, потому что «Воображаемый театр» — он воображаемый, ты, старая свиноматка!» Вместо того я мысленно беру за руководство книгу хороших манер Гермико и низко кланяюсь мадам Ватанабе.
Явно сбитая с толку, она отступает на шаг.
— Мадам Ватанабе, нам просто необходимо познакомиться друг с другом поближе. Мне бы хотелось рассказать вам про труппу «Воображаемый театр», а также побольше узнать о вас. Я уверена, мы можем сообщить друг другу столько всего нового. Ведь женщина вашего возраста… о, у вас гораздо, гораздо больше опыта, чем у меня. Мне было бы крайне интересно послушать о вашей сценической подготовке, если, конечно, таковая имеется.
Ее очередь кланяться.
— Скоро все так.
Распахиваю дверь классной комнаты — девочки носятся как оглашенные. Кеико, вытянув руки параллельно полу, кружит по комнате. Мичико, Норико, Фумико и Хидеко бегают за ней, прыг-скок с подушки на подушку, и все гудят себе под нос: «Мокка-мокка-мокка, мокка-мокка-мокка». Акико, староста до мозга костей, стоит в стороне, руки в боки, и наблюдает за происходящим. Она замечает меня первой, за ней — все остальные. Кеико самозабвенно вертится волчком.
— Что происходит? — Пинком отбрасываю подушки с дороги, выхожу на середину комнаты. Теперь и Кеико меня видит, однако продолжает крутиться как сумасшедшая. Вихрем кружит вокруг меня, так, что кончики ее пальцев едва не оцарапали мне щеку.
— Кеико спятила, — сообщает Мичико, отгрызая добрую толику ногтя. Можно подумать, сама только что не носилась по комнате туда-сюда. — Мне остановить ее?
— Если она спятила, ее уже не остановишь. Она так и будет вращаться, вращаться, пока сама себя не собьет в масло.
— В масло? — повторяет Фумико. — Теперь и вы спятила.
— Спятили — множественное число, Фумико.
— Я спятили, — со смехом говорит Норико. И вот уже они все повторяют то же самое — все, кроме старосты группы Акико, которая не в силах не супиться, и Кеико, которая униматься и не думает.
— Кеико просто изображает, — поясняет Хидеко, повыше подтягивая гетру на пухлой ножке.
— Что изображает, Хидеко? Дервиша, ветряную мельницу, волчок или…
— Вертолет! — кричит Кеико и перестает вертеться. Ухмыляется — шире уже некуда. — Учительница приехать в школу в вертолете.
И все начинается сначала. Даже запуганная малышка Мичико вытягивает руки и присоединяется к крутящемуся хору. «Мокка-мокка-мокка, мокка-мокка-мокка».
Акико бегает за товарками, приложив палец к губам и всячески шикая, но тем и дела нету.
— Я уезжала на выходные.
— Куда уезжала? — не отступается Фумико.
— Я ездила в Осаку, а потом — в Токио… за покупками.
— За покупками! — Пухленькое личико Хидеко так и светится.
— Вы ездить за покупками в вертолете? — уточняет Норико, локтем подталкивая Фумико.
— Я уехала на поезде, а вернулась на вертушке.
— На вертушке? — Мичико закусывает нижнюю губку.
— Мокка-мокка-мокка, — шепчет Фумико на ухо Норико.
— Ктошный вертолет? — любопытствует Кеико.
— Одного друга Гермико.
— Богатый друг, — вздыхает Хидеко.
— По-моему, нам пора начать урок. — Я словно вернулась в гребаный Летбридж, такой маленький и тесный, что каждая собака знает все на свете еще до того, как это «все на свете» произошло. — Мы припозднились.
— Ктошный вертолет? — не отстает настырная Фумико.
Я бы подыскала ей пластического хирурга, чтобы тот родинкой занялся и заодно рот ей зашил.
— Подарок для вас, когда вы возвращаться, — вступает Норико. — На столе.
Кеико подкрадывается поближе и шепчет мне на ухо:
— Мокка-мокка.
С меня довольно. Хватаю ее за плечо и толкаю на подушку. Подушка выскальзывает, Кеико ударяется задницей об пол. Мичико вскрикивает, как будто это я ее опрокинула. Акико заламывает руки.
— А ну, прекратили гребаный бардак и сели по местам, о’кей?
Мичико плюхается на ближайшую подушку, запихнув в рот все пальцы сразу. Норико, Акико и Хидеко следуют ее примеру. Только Фумико канителится: то туда подвинет подушку, то сюда затянутым в чулок пальчиком, пока не находит для нее идеальное место, между подушкой Норико и подушкой Кеико, которая пустует: Кеико предпочла остаться на полу.
— Я — ваша учительница, но из этого вовсе не следует, что я — ваша собственность. Я никак не в силах помешать вам шпионить за мной, — Мичико опускает голову, — однако я имею право на личную жизнь. Что я делаю в свободное время, вас никоим боком не касается, ясно?
Долгое молчание.
Наконец Хидеко — бурундучиные щечки закраснелись — выдавливает из себя:
— Шпионить нет.
— Нет-нет, мы вовсе не шпионили, — подхватывает Акико. — Утром была наша очередь подстригать кусты на шахматной доске рядом с парковочной площадкой.
— А откуда вы узнали про мой подарочный фрукт? Кто-то еще и дом мой обшарил.
Теперь потупилась Кеико.
— И чтоб больше этого не было. Как вам понравится, если бы я вздумала совать нос в вашу личную жизнь? Вам было бы приятно?
Те девочки, что не изучают пол, глядят на меня и качают головами.
— Как, неужто вам было бы приятно? Мичико неуверенно поднимает руку.
— Не нужно этого делать, Мичико. Говори сразу.
— В Японии личной жизни нет.
— Это как же так?
Мичико поднимает голову, глядит на меня: в глазах у нее слезы.
— Это правда. Каждый — часть всех остальных. Мы все часть целого, как большая семья. Отдельных частей нет.