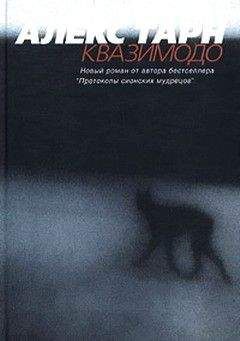– Ну, ты гнида!
– О! – его истерика мгновенно гаснет. – Вижу, ты понял, мой умный мальчик. Заметано, ма шер, – Гвидо тут же нацепил фирменную улыбочку Джека Николсона, похлопал меня по плечу и удалился, время от времени оборачиваясь и постреливая в меня из пальца.
А я на своих кривых и полусогнутых отправился в противоположную сторону. К бару! Внутри меня – пустыня недоумения, вокруг меня – светская Москва. Вечеринка «GQ». Мне улыбаются топ-модели в отставке и подозрительно прищуриваются их богатые мужья. Они-то знают, что их новоиспеченные жены были влюблены в меня задолго до выхода на свою «модельную» пенсию в неполные тридцать лет. Мне строят глазки юные пиарщицы, которых расплодилось по Москве, как бактерий в организме, лишенном иммунитета. Да мне – по фигу! Отличная работа для девушек: делаешь то, к чему приспособлен природой – строишь глазки, болтаешь анлимитед и получаешь за это немного денег, но главное – получаешь образ жизни, статус и перспективу. Сказать знакомым: «Я – пиарщица» всегда лучше, чем признаться: «Я секретарша».
Я протиснулся к стойке и немедленно получил свою порцию виски. Я выпил, но так и не понял, что со мной происходит. Гвидо прав, конечно, я не должен вмешиваться в его дела. Почему я должен возникать из табакерки и, как последний варвар, разрушать то, что он создает. Тем более Гвидо – отличный продюсер. Своим сумасшедшим, даже с точки зрения русской версии журнала Forbes заработкам я во многом обязан Гвидо. Артист, да еще такой неуравновешенный, как я, да еще с такой предрасположенностью к хаосу, к беспределу и анархии, не может в одиночку делать бизнес на самом себе. Да и какое мне дело до этой девчонки? Гвидо прав по всем статьям. Я попытался зомбировать себя детской считалкой, но быстро понял, что все мои мысли – сплошные самоуговоры. Я обречен. Я раб своих инстинктов. Если желание рвется из меня наружу, я не в силах его сдержать… Оно быстро превращается в намерение и транзитом – в поступок. Раб своей собственной лампы. Так я и сказал художнику Никасу, который поблизости полировал талию блондинке с диадемкой-ящерицей в волосах:
– Дружище, ты не мог бы меня выручить?
– Сколько?
– Нет, не это… Видишь вон ту рыженькую в красном бикини рядом с Гвидо? Выведи, пожалуйста, ее из клуба, только так, чтобы Гвидо не заметил. Получится?
– Ты уверен, мой маленький популярный дурачок?
– Йес, сэр! Йес, сэр? Да? Я – дурачок! Я твой должник.
– Смотри!
Спустя десять минут они, держась за руки, выскочили на крыльцо под расстрел немногочисленных потрепанных папарацци.
– Твой Гвидо просто рабовладелец. Я не мог уговорить его отпустить девушку потанцевать со мной! Пришлось схватить ее и утащить на танцпол, попросив Гвидо, напоследок не стрелять мне в спину. И знаешь, почему он не выстрелил? Только потому, что не захотел выглядеть гангстером перед журналистами, – с этими словами Никас вложил узкую ладонь Леры в мою влажную ладонь. – Владей!
– А Тони-Пони какие-то танцоры зажали у саббуфера, – пробормотала она невнятно.
Я схватил ее за руку, подмигнул Никасу, и мы начали наш грандиозный побег, как в замедленной киносъемке – прочь от клуба, от глаз, от вспышек, от светской Москвы. Прочь от Гвидо. Папарацци достались только сенсационные кадры подошв наших туфель. Modern Love! Она не сказала ни слова, вместо нее говорила рука, ее ладонь крепко сжимала мою ладонь. Modern Love! Мы добежали до угла, где тень давно уснувшего в два часа ночи жилого дома накрыла нас. Я резко затормозил под нависшим козырьком подъезда, она врезалась в меня, полетели искры, сжигая залежавшиеся на стылой земле желтые листья… Modern Love! И здесь я, не дав нам обоим отдышаться, поцеловал ее:
– Вот. Ты просила.
Через минуту подлетел мой автомобиль, фиолетового крика винтажный «Бьюик», и шофер Стас распахнул дверцу. Мы прыгнули на заднее сиденье и продолжали целоваться всю дорогу до моей знаменитой берлоги на Знаменке. Минут пятнадцать. В Стасе я уверен, никому из тех, кто знает Стаса, не придет в голову стесняться Стаса. Он настолько привык к подобным сценам, что даже ленится подглядывать в зеркало заднего вида. Наверное, никто в мире не видел документальной хроники про меня больше, чем Стас. Мы бросили его в авто, которое с визгом затормозило у двери, вихрем влетели в подъезд, не останавливаясь, продолжая целоваться. Кубарем ввалились в лифт, не разжимая объятий. У меня давно не было кого-то, от кого мне не хотелось бы отрываться. Примерно это я сообщал ей каждым движением своих губ. Она водила язычком по кончикам моих зубов так, будто хотела, чтобы я знал, что она совсем не такая смелая, как я о ней думаю. Нет, ей вовсе не страшно, разве только – чуть-чуть… Я на ощупь вставил ключ в замочную скважину и по тому, как беглая судорога сковала ее губы, зажатые в моих губах, понял, что она ощутила этот жест как неповторимую индивидуальность моего проникновения. Я медленно и плавно поворачивал ключ, чтобы дать ей понять мой стиль, мои повадки внутри. Она доверчиво проглотила мой язык. Мы уже сделали это, даже не раздевшись, даже не войдя в квартиру.
Она сама раздевала меня. Нет, она не делала это торопливо, стаскивая штаны вместе с трусами, как шлюхи-группиз. И она не делала это страстно, вцепляясь зубами в пуговицы рубашки, сопя и похрюкивая, как похотливые студентки. И совсем не делала это томно, разыгрывая каждый жест как мини-спектакль и танцуя с моим ремнем, как богемные барышни, и отыгрывая стриптиз, снимая с себя одежду, как кухарка листки с кочана капусты. Нет. Она делала это неумело и целомудренно, а я впервые за двадцать лет вспомнил, неважно…Я ответил ей тем, что перестал быть похожим на себя, я перестал узнавать собственное поведение. Я не бросился на нее, как возбужденный скунс, не задрал юбку и не запустил сразу руку ей в трусы. Я не нагнул ее лицом на кушетку и не загнал своего Ланселота в ее беззащитное укрепление. Я даже не бросил ее на колени и не стал прижимать ее губы к моей ширинке. Я медленно и нежно, пуговица за пуговицей, крючок за крючком – ой! – извини, заколка! – снимал с нее лишнее. Мы легли голые, держась за руки, и терлись друг о друга носами, будто это – самое прекрасное и важное, что есть в сексе. Ни один из нас не думал об оргазмах, мы испытывали непрерывный экстаз, едва касаясь друг друга. Вспоминаю, что вел себя настойчивее, даже когда лишался невинности.
Санта-Бирн однажды ответил на вопрос «почему он живет в Нью-Йорке?»: «В Нью-Йорке достаточно просто выглянуть на улицу, чтобы увидеть, как кто-то падает из окна». Он точно знал, о чем говорит.
Следующие часы были объявлены Юнеско временем нежности. Во всяком случае, на моей суверенной территории. Час проходил так же незаметно, как для древних абиссинцев век. А затем мы неожиданно и некстати вспомнили, что язык существует не только для ласк, и она вдруг стала очень любопытной.
– Ты правда трахнул больше тысячи девчонок?
– А правда говорят, что ты – и с мальчиками тоже?
– Расскажи мне про групповой секс?
– А правда, что секс под коксом в десять раз круче?
Я курил, она упиралась своими маленькими кулачками мне в грудь, махала ресницами, морщила носик, усеянный озорными веснушками. Все как обычно, но – все по-новому. Что со мной? Время от времени ее чувственный интерес сменялся профессиональным.
– В газетах пишут, что ты без порошка вообще на сцену не выходишь?
– А кто платит, когда вы на сцене ломаете аппаратуру?
– А за погромы в отелях?
– А штрафы за пьянство в самолетах?
– А кто достает тебе кокс на гастролях?
– А правда то, о чем говорил Гвидо в клубе?
Сначала я отвечал односложно почти на все ее вопросы. Потому что в моей голове тоже вертелись два вопроса, которые я так хотел, но не решался задать.
Первый:
– Какого черта тебя угораздило связаться с Гвидо?
Второй:
– Как ты умудрилась до этой ночи оставаться девственницей?!!
Нет, все-таки три вопроса:
– Почему ты выбрала именно меня своим первым?!
Конечно, она не ответила ни на один из моих вопросов.
Конечно, я поступал так, как обычно поступают мужчины. Говорил много и красиво. Шептал в ее маленькое круглое ушко про женскую утонченность, многозначительно бубнил об избранности мужчин, жестикулировал, возбужденно вещая о самолетах, лимузинах, городах. Я говорил много, но совсем не собирался удовлетворять ее любопытство. За исключением кладбища, о котором говорил Гвидо. В этом вопросе я был категоричен. Не ссал я на кладбище. Никогда! В перерывах между расслабленной болтовней, этим сексом подсознаний под гипнозом чувственности, я еще два раза вплывал в нее на своей пиратской шхуне. Она принимала меня покорно и радостно. Не как захватчика, но как освободителя.
– Ты чудовище!
– А я буду звать тебя крокодилом!
– Я такая страшная?
– Ты просто хищная… с такими зубами…
– Моя подруга в Твери зовет меня крысой…