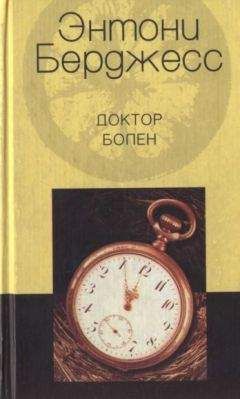— Я только надену свои шмотки, — сказал я, — стоя у лестницы, — то есть одежду, и уйду один. Я хочу сказать, что я за все благодарен, но у меня есть своя собственная жизнь.
Потому что, братцы, мне хотелось поскорее отсюда убраться. Но 3. Долин сказал:
— Нет, нет. Ты у нас дружок, и мы тебя так не отпустим. Пойдем с нами. Увидишь, все будет хорошо.
И он подошел ко мне, чтобы опять схватить за рукер. Тут, братцы, я думал начать дратсинг, но мысль о драке вызвала у меня слабость и тошноту, так что я остался стоять. Потом я увидел это безумие в глазерах Ф. Александера и сказал:
— Говорите, что делать. Я в ваших рукерах. Только давайте начнем сразу, братцы.
Потому что все, что я сейчас хотел, это выбраться из этого мьеста под названием "Домашний очаг". Мне начинали малэнко не нравиться глазеры Ф.Александера.
— Прекрасно, — сказал этот Рубинштейн. — Одевайся, и мы идем.
— Дим, дим, дим, — продолжал тихонько бормотать Ф. Александер. — Что или кто был этот Дим?
Я поднялся наверх вэри скор-ро и оделся буквально за пару секунд. Потом вышел с этими тремя, и мы сели в авто: Рубинштейн с одной стороны от меня, а 3. Долин, кашляя "кхе-кхе-кхе" с другой. Д.Б. да-Силва повел машину в город к жилому блоку не так далеко от того, который был моим собственным жилым блоком или домом.
— Выходи, мальчик, — сказал З. Долин, кашляя так, что канцерогенка в его ротере разгорелась, как маленькая печь. — Тут мы тебя поселим.
Мы вошли /тут тоже были эти вештши насчет Трудового Достоинства на стенах вестибюля/, поднялись на лифте и вошли в квартиру, как все квартиры во всех жилых блоках города. Вэри-вэри маленькая, с двумя спальнями и одной жилой едально-рабочей комнатой, со столом, заваленным книгами, бумагами, чернилами, бутылками и прочим дреком.
— Вот твой новый дом, — сказал Д.Б. да-Силва. Располагайся, мальчик. Еда в буфете. Пижама в ящике. Отдыхай, отдыхай, смущенный дух.
— А? — спросил я, не совсем это поняв.
— Все в порядке, — сказал Рубинштейн своим старменским голосом. — Сейчас мы уходим. Надо кое-что сделать. Вернемся позднее. Занимайся, чем хочешь.
— Еще одно, — прокашлял 3. Долин — кхе-кхе-кхе. — Ты видел, что беспокоит измученную память нашего друга Ф. Александера. Может быть, действительно…? Я хочу сказать, ты..? Думаю, ты знаешь, что я имею в виду. Больше мы к этому не вернемся.
— Я заплатил, — ответил я. — Богг знает, как я заплатил за то, что сделал. Я заплатил не только за себя, но и за тех ублюдков, что звали себя моими другерами.
Я разгорячился и почувствовал, что меня немного затошнило.
— Я прилягу, — сказал я. — У меня было жуткое, жуткое время.
— Да, это так, — сказал Д.Б. да-Силва, показав все свои тридцать зуберов, — Приляг.
И они ушли, братцы. Они пошли по своим делам, которые, как я понял, заключались в политике и подобном дреке, а я остался на постели, совершенно один, и все кругом было вэри-вэри тихо. Я просто лежал, скинув с ногеров саппоги и развязав галстук, вроде ошарашенный и не зная, что за жизнь мне теперь предстоит. Всякие картины проходили через мой голловер — о разных тшелловэках, которых я встречал в школе и в Стэй-Эжэй, и о всяческих вештшах, бывавших со мной, и о том, что во всем большом мире нет ни вэка, которому можно верить. И я немножко задремал, братцы.
Когда я проснулся, то услышал музыку, идущую из-за стенки, вэри громкую, это и прервало мой сон. Это была симфония, которую я знал вэри хор-рошо, но не слышал несколько лет, а именно Симфонию Номер Три одного датчанина, Отто Скаделига, вэри громкая и мощная вещь, особенно в первой части. Пару секунд я слушал с интересом и радостью но затем все это покатилось на меня, началась боль и тошнота во всех моих кишках, так что я застонал. А потом я, я, так любивший музыку, вылез из постели и, охая принялся — танг-банг-банг колотить в стену, крича: "Прекратите, прекратите, выключите это!" Но она продолжалась и, кажется, стала еще громче. А я дубасил в стену, пока не содрал кожу на пальцах, и потек красный-красный кроффь, и я кричал и кричал, но музыка не прекращалась. Тогда я подумал, что надо уйти от нее, заковылял из спальни и быстро подошел ко входной двери квартиры, но она была заперта снаружи, и я не мог выйти. И все время эта музыка становилась громче и громче, будто это было намеренной пыткой, о братцы. Я сунул мизинцы как можно глубже в ухеры, но тромбоны и барабаны все равно гремели достаточно громко. Я снова закричал, чтобы они прекратили и — трах-трах-трах! заколотил в стену, но это не привело ни к малейшей перемене. "Ох, что же мне делать? — зарыдал я, — О, Боже в Небесах, помоги мне!" Я бродил по квартире, терзаемый болью и тошнотой, пытаясь отключиться от этой музыки, испуская стоны из глубины души, и тут на верху кучи книг и бумаг и всего этого дрека на столе жилой комнаты увидел то, что должен был сделать и хотел сделать, пока эти стармэны в Публичном Библио, а потом Дим и Биллибой, переодетые роззами, не остановили меня, а именно, покончить с собой, помереть, навсегда убраться из этого преступного и жестокого мира. Я увиддил, слово СМЕРТЬ на обложке одной брошюры, хотя в действительности это было просто "Смерть Правительству". И будто Судьба, тут же была еще маленькая книжонка с открытым окном на обложке и с надписью: " Открой окно для свежего воздуха, свежих идей, новых путей в жизни". И я понял, что мне будто говорили: покончить все, прыгнув из окна. Может быть, мгновенье боли, но потом — сон навсегда, навсегда, навсегда.
А музыка из-за стены все низвергалась, будто с многомильной высоты, всей своей медью, барабанами и скрипками. Окно в комнате, где я раньше лежал, было открыто. Я подошел к нему и увиддил далеко внизу машины, автобусы и других тшелловэков. Я закричал, обращаясь к миру:
"Прощайте, прощайте, да простит вам Богг за погубленную жизнь!"
Потом я встал на подоконник, а музыка рвалась мне вслед, закрыл глазеры, почувствовал холодный ветер на лике, и прыгнул.
Я прыгнул, о, братцы, и здорово грохнулся на тротуар, но не загнулся, нет. Если б я загнулся, я не был бы здесь и не мог бы написать то, что написал. Должно быть, прыжок был с недостаточной высоты, чтобы убиться. Но я разбил спину, запястья и ногеры, и боль была вэри сильная, прежде чем я потерял сознание, братцы, и лики тшелловэков на улице, смотревших на меня сверху, были удивленные и недоумевающие. И как раз перед тем, как потерять сознание я ясно увиддил, что ни один тшелловэк во всем этом ужасном мире не был на моей стороне и что эта музыка из-за стены была нарочно подстроена теми, кто притворился моими новыми другерами, и, что это был вештш, который они хотели ради своей ужасной, эгоистичной и хвастливой политики. И все это вроде за миллионную миллионной доли минуты перед тем, как исчез этот мир, и небо, и лики глазеющих тшелловэков надо мной.
Когда я пришел в себя после долгого черного-черного промежутка, может быть, в миллион лет, я увиддил себя в больнице, такой белой с этим больничным запахом, вроде бы кислым и странным и чистым. Эти антисептические ветши, какие бывают в больницах, вэри хор-рошо пахнут жареным луком или цветами. Очень медленно я снова понял, кто я; я весь был обмотан белым и совсем не чувствовал ни тьелла, ни боли, ни осязания — вообще ничего. Весь голловер был в бинтах, и куски чего-то наклеены на лик, и рукеры тоже все были в бинтах, а к пальцам прикрепелены палочки, будто к цветам, чтобы они росли прямо, и мои бедные ногеры тоже были вытянуты прямо и все в бинтах и проволочных клетках, а в мой правый рукер, возле плэтшера, капал красный-красный кроффь из банки, подвешанной сверху. Но я ничего не чувствовал, о, братцы. У моей постели сидела сестра и читала книгу с вэри неясным шрифтом, но было видно, что это роман, по множеству кавычек, и она так тяжело дышала над ней: "Ух-ух-ух", так что, наверно, там говорилось насчет сунуть-вынуть. Она была очень хор-рошей дьевотшкой, эта сестричка, с вэри красным ротером и длинными ресницами, прикрывавшими глазеры, а под халатиком, совсем в обтяжку, можно было виддить вэри хор-рошие грудели. Поэтому я сказал ей:
— Как делишки, сестричка? Ложись, полежи малэнко в постельке с твоим маленьким другером.
Но слова получались очень плохо, мой ротер будто весь окостенел, и, двигая йаззиком, я чувствовал, что не все зуберы на месте. Сестра так и подскочила, уронила книжку на пол и сказала:
— Ох, вы пришли в сознание!
Это были слишком большие слова для такой маленькой цыпки, и я пытался это сказать, но получалось только "э-э-э". Она вышла, оставив меня одного, и я мог теперь виддить, что лежу в отдельной комнатке, а не в одной из этих длинных палат, где я лежал вэри маленьким малтшиком и где кругом полно кашляющих, умирающих старых вэков, чтобы тебе хотелось поскорее поправиться и снова быть здоровым. Тогда я болел, кажется, дифтерией, братцы.

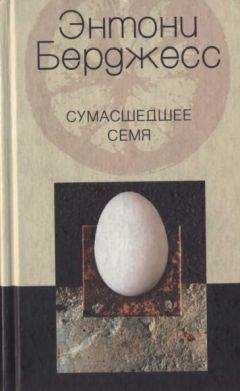

![Иоанна Хмелевская - Корова царя небесного [Божественная корова]](https://cdn.my-library.info/books/185251/185251.jpg)