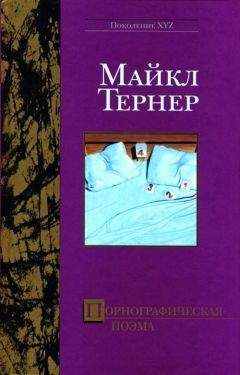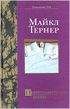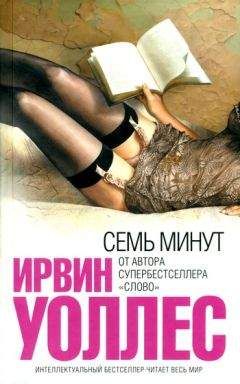Мы еще не завернули за угол школьной ограды, когда она спросила меня весьма спокойным тоном:
— Что ты сотворил с моими фотографиями?
— А? Какими фотографиями?
— Фотографиями из подвала; некоторые из них исчезли.
Я похолодел. Врать не имело смысла. Она наверняка заметила, как я за ними лазил.
— Кажется, переложил их куда-то, — промолвил я небрежно. В конце концов, это просто фотографии.
— Отлично, — произнесла она таким тоном, будто инцидент исчерпан.
Мы завернули за следующий угол. И тут она начала снова:
— А что ты жег у помойки на следующий день?
Зараза! Типичные матушкины приемы — дать возможность сказать правду и, если эта возможность не использована, нанести удар с другого фланга.
— Ну ладно, я их сжег, — признался я ей. — Сжег фотографии.
— Это все, что я хотела узнать, — отозвалась она.
Мы почти приехали.
Я сел на кровать и уставился в окно. Я всегда занимал такое положение, когда оказывался в дерьме вроде этого. Следовало сперва выяснить, как же так вышло, что я попался, а потом попытаться предположить, какое последует наказание. Это всегда происходило именно так: дорога из школы, допрос, затем — в комнату до ужина. Ужин прошел в тишине, потом я добровольно убрал со стола, что, впрочем, и так обычно делал после того, как ушел отец. Затем, как положено образцовому маленькому засранцу, отправился намывать тарелки. В тот самый момент, когда я протирал последнее блюдо, матушка обычно входила и оглашала свой приговор. Он зависел от местонахождения отца: если тот сидел дома, это означало заточение; если находился во дворе — меня ждала порка. На этот раз страх охватил меня с особой силой — ведь тогда я оскандалился первый раз с тех пор, как мама выгнала отца.
Прямо перед ужином в мою дверь постучали. Мама. Я почувствовал себя на редкость глупо, когда она спросила разрешения войти. Глупо, поскольку казалось: раз уж я провинился, то тем самым лишен всяких прав. Ну что же…
— Да, заходи.
Помню, я не повернулся лицом к двери: поворот должен стать частью моей самозащиты и сопровождаться оправдательной речью. Дверь скрипнула. Послышались шаги. И ничего. Я ждал. Казалось, прошло несколько лет, прежде чем мама назвала мое имя. Мне показалось, что я схожу с ума. Примерно таким же образом, как тогда, когда жег фотографии. Тогда она позвала меня снова. И потом сразу:
— Зачем ты сжег фотографии своего отца?
Не помню, как повернулся, следующий момент — это когда я уже обнимал маму. По-моему, я сжимал ее довольно долго. Затем к нам присоединилась сестра, помню, я еще подумал, что она слишком глупа, слишком еще мала, чтобы понять, что происходит, помню, как мама плакала от боли, от страха, от одиночества. Когда наконец сестренка спросила, что произошло, мама шумно вздохнула, беря себя в руки, и сказала:
— Как насчет того, чтобы спуститься и посмотреть кино?
У мамы в спальне нашелся кинопроектор. Рядом с ним стояла грандиозных размеров металлическая канистра. Надпись на ней гласила: «1960–1969». Мама пригласила нас рассесться поудобней — на ужин ожидались хот-доги и томатный суп, — и мы приступили к просмотру. Все происходило достаточно странно. Мы никогда еще не ели в родительской спальне, особенно с тех пор, как маму охватила паранойя по поводу того, что мы испортим ее золотистую софу. И что же там с моим наказанием? Я серьезно надеялся, что его еще можно как-то избежать.
— Фильм, который мы будем смотреть, называется «История этой семьи», — сказала мама со слезами в голосе. — И хотя мы в последнее время не очень много снимали, это не значит, что фильм — хлюп, хлюп — закончился.
На катушке поместилось десять лет, и мы смотрели все: мама и папа еще до того, как поженились. Их свадьба. Я в недельном возрасте, еле живой после операции — выправляли грыжу. Сестренку, родившуюся несколькими годами позже, привезли домой из роддома. Она вся такая розовая и сморщенная. Каникулы. Отпуска. Дни рождения. Родственники. Иногда мама комментировала, иногда плакала, порой — и то и другое одновременно. Мы смеялись над бабушкой, курящей сигару, дыхание снова замирало, когда отец нырял с высоченной скалы где-то недалеко от Орегона. Отец моего отца, о котором я только слышал, прикуривает сигарету где-то на пляже. В какой-то момент мама вдруг отрубила проектор, намереваясь то ли досказать историю, то ли вообще поговорить о чем-то совершенно ином.
Все затянулось допоздна. Помню, я остолбенел, глянув на часы и обнаружив, какая глубокая уже ночь. Наверное, никогда в жизни я еще не бодрствовал после полуночи. Но я вовсе не чувствовал усталости. Скорее боялся, что скоро уже меня уложат. Мама повела сестренку наверх, велев мне подождать. Вернувшись, она еле слышным от усталости голосом сказала, что не станет меня наказывать, что теперь понимает мои чувства. Но все-таки совершенно недопустимо жечь фотографии, а потом еще и лгать. Если даже мне не хочется на что-то смотреть, это еще не означает, будто все остальные тоже должны этого лишиться. Еще она сказал, что такие ситуации часто встречаются в жизни, причем с возрастом все становится сложнее. Просто надо откровенно обсудить произошедшее, и тогда часто то, что казалось негативным, оказывается позитивным. Затем она поцеловала меня. А я поцеловал ее. И пошел спать.
— Как вашей матери удавалось содержать вас с сестрой после того, как отец ушел?
— Он не ушел, его вышвырнули.
— Очень хорошо. Как вашей матери удавалось содержать вас с сестрой после того, как отца вышвырнули?
— Она работала. Она все время работала.
— Кем же она работала?
— Цитологом. Моя мама — цитолог.
— Цитология — изучение клеток.
— Клеток и поведения клеток, точно.
— И кто же приглядывал за вами, пока мать работала?
— Мы сами приглядывали друг за другом. Институт рака был достаточно прогрессивной организацией, чтобы позволить маме работать в те часы, когда мы в школе.
— Ваша мать была религиозна? Она приобщала вас к какой-нибудь религии?
— Да. Мы с сестрой были конфирмированы в англиканской церкви.
— Наши записи свидетельствуют, что после конфирмации вы крайне нерегулярно посещали церковь. На это есть какая-то причина?
— Мама сказала мне после конфирмации, что я достаточно взрослый, чтобы самостоятельно принимать решения относительно церкви.
— И вы решили ходить туда только по случаю крещения, похорон и свадеб?
— Ну, я вижу это в другом свете. В самом деле. Похоже, вам уже известны ответы на все эти вопросы. Какого хрена мне их задают?
— Есть некоторые вещи, которые мы еще не знаем.
— И какие же?
— Этого мы сказать не можем.
— Ну что ж, блин, тогда спрашивайте о том, чего вы не знаете, а не о том, что знаете, и мы покончим с этим намного быстрее.
Через две недели после моего двенадцатого дня рождения я вернулся в школу и немедленно обнаружил, что лучший учитель в мире, мистер Джинджелл летом вышел на пенсию. Это казалось странным — ведь когда два года назад в отставку ушел мистер Кавано, его провожали с великой помпой; а мы любили его куда меньше мистера Джинджелла. Среди учеников началось брожение. Посыпались вопросы, в том числе и от меня. Почему мистеру Джинджеллу не устроили достойных проводов, как мистеру Кавано? Или даже: почему мистер Джинджелл даже не намекнул нам, что собирается уходить? Ему просто наплевать? В этот же день, немного позже, местная сплетница миссис Смарт залетела к нам на кухню и швырнула прямо об пол изрядную бомбу: в действительности мистер Джинджелл уволен. Случилось это перед каникулами, в последний день занятий. Его поймали в тот момент, когда его руки находились в штанах Тимми Уэйта.
Это было поистине неприятной новостью. Весьма странно. Большинство из нас с детства знали и Тимми, и мистера Джинджелла. Благодаря им мы узнали, что означают такие словосочетания, как «специальное обучение» и «церебральный паралич». И именно мистер Джинджелл настаивал на праве Тимми находиться с нами на площадке — ведь достаточно проявить немного воображения, и мы веселились бы все вместе. Так что объяснение мистера Джинджелла, что он лишь помогал Тимми добраться до ванной и ничего больше, звучало в высшей степени естественно. До самого конца истории миссис Смарт. Ведь после надлежащего количества восклицаний «О Боже!» и «Ну надо же!» она произнесла фразу, которая до сих пор звучит у меня в голове:
— Я имею в виду — Боже ж мой, как можно помогать дойти до ванной, находясь в чулане для щеток?
Меня охватили противоречивые чувства. Все лето я не мог дождаться, когда же начну учиться у мистера Джинджелла в седьмом классе. Никто не мог потягаться с ним в популярности, у детей не возникало никаких сомнений в том, что именно он лучший учитель. Всех очаровывали его шутки, его энтузиазм. Его экскурсии — будь то в аквариум, планетарий или птичий заповедник — немедленно приобретали статус легендарных. А теперь он оказался растлителем малолетних. И все равно больше всего мне хотелось, чтобы и в седьмом классе он вел занятия.