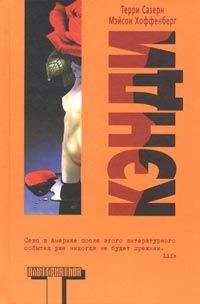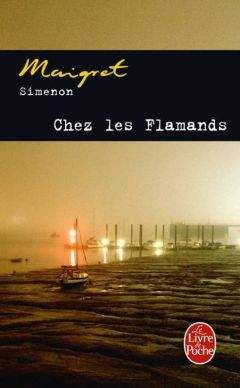— В наше время немногие люди способны по-настоящему чувствовать… и я думаю, что причина — засилье коммерции; коммерческий взгляд на вещи убивает способность чувствовать… он уничтожает искусство чувствовать, ибо это и вправду большое искусство… чувствовать по-настоящему. Слова обесценились. Чем, собственно, и объясняется полный провал официальной религии… вечные ценности превратились в красивые словеса и не более того. Лицемерие! Неискренность — вот откуда все наши беды.
Он остановился за стулом Кэнди. Кэнди сидела вся напряженная и зажатая, глядя в пространство прямо перед собой. Ей было очень неловко, потому что другие ученики, которых она видела вместе с профессором, держались естественно и непринужденно, а вот у нее это не получалось. Она попыталась расслабиться, подражая этим ребятам — откинулась на спинку стула и отпила хереса, — и при этом она лихорадочно перебирала в памяти все журналы и книги, которые прочла в этом семестре, чтобы сказать сейчас что-нибудь умное и подходящее к случаю. Но она ничего не смогла придумать, потому что у нее в голове вертелась только одна мысль: «какой замечательный человек. Великий человек. И я с ним знакома!» Она слышала тяжелое дыхание профессора у себя за спиной, и ей представлялось, что вот так же, наверное, дышал человек из той книжки про давние времена — тот, который тащил на Голгофу крест. И на этот раз она уже не отстранилась и даже не вздрогнула, когда профессор положил руку ей на плечо и провел рукой вверх, ей по шее.
— Мне кажется, — тихо проговорил он, — что ты — девочка умная и проницательная и ты способна на чувства, на настоящие чувства, — он умолк на мгновение и добавил… шепотом: — И мне кажется, ты понимаешь, как меня тянет к тебе!
Его рука скользнула вокруг ее шеи, по горлу — вниз, к вырезу блузки, за вырез блузки, и Кэнди от неожиданности уронила свою рюмку с хересом.
— О Господи, — пролепетала она, вскакивая со стула, чтобы собрать с пола осколки, потому что рюмка разбилась. Ей было так стыдно и так неловко.
— Ой, простите, пожалуйста, я…
— Ничего страшного, — хрипло проговорил профессор, присев на корточки рядом с ней. — Это всего лишь вещь, материальный объект — химера бытия!
Он уткнулся лицом ей в шею и запустил руку ей под свитер.
— Ты же мне не откажешь, — прошептал он. — Ты меня не оттолкнешь. Я знаю, ты добрая девочка. Вовсе не эгоистка… И то, что ты написала в своем сочинении… я уверен, что это искренне. И ты мне нужна, так нужна… — Он заговорил, как в бреду: — «…особая привилегия, прекрасная и волнующая… отдаться полностью, целиком…», — прижимаясь к ней все теснее. Но Кэнди резко вскочила на ноги, и профессор не удержал равновесия и завалился набок, прямо на пролитый херес. Он попытался смягчить падение одной рукой, а другой — утянуть за собой Кэнди, но не преуспел ни в том, ни в другом; так что теперь он лежал прямо в луже хереса громоздкой неповоротливой тушей, тихонько стонал и барахтался в безуспешных попытках подняться — может, он сильно ударился, а может быть, просто ему было трудно подняться с пола из-за его тучной комплекции.
Кэнди жутко перепугалась. Она застыла на месте, прикрыв рот ладошкой.
— Ой, профессор Мефисто, я…
— Утешь того, кто так нуждается в утешении, моя девочка, — умолял он, лежа по полу и протягивая к ней руки — на тот случай, если она вдруг упадет к нему в объятия. — Ты же сама написала… «прекрасная и волнующая привилегия»…
Но бедная девочка была жутко напугана и по-прежнему очень расстроена из-за того, что разбила рюмку.
— Ой, я не знаю… — пролепетала она, чуть не плача. — Я… мне так страшно… я только хотела…
Она умолкла на полуслове, потому что дверь в кабинет распахнулась и вошел тот самый мальчик с угрюмым лицом, который с таким раздражением, чуть ли не со злобой передал ей приглашение профессора. Он взглянул на профессора на полу, потом — на Кэнди, и его глаза вспыхнули бешенством, а лицо стало белым как мел.
— Прошу прощения! — проговорил он с холодным высокомерием и развернулся, чтобы уйти.
— Подожди, Холи! — воскликнул профессор, с трудом поднимаясь на ноги. — Подожди… это всего лишь… — Он неуклюже оправил пиджак. Было видно, что он смущен. Мальчик застыл в дверях, выжидающе глядя на профессора.
— Пожалуй, мне лучше уйти, — сказал он, так и не дождавшись никаких объяснений.
— Нет, Холи, нет, — профессор Мефисто взял себя в руки и шагнул к мальчику. — Пойдем во внутренний кабинет, — твердо проговорил он.
Мальчик мрачно взглянул на него. Он был уже не такой бледный.
— Пойдем, — повторил профессор уже мягче и положил руку мальчику на плечо. — Пойдем.
Перед тем как закрыть за собой дверь во внутренний кабинет, он обернулся к Кэнди:
— Прошу прощения. Мы буквально на пару минут.
— Да, конечно, — пробормотала смущенная девочка и снова уселась на стул. Из-за двери во внутренний кабинет доносился приглушенный гул голосов, потом там как будто хлопнула дверь. Наверное, мальчик ушел. Кэнди подождала еще пару минут, но профессор не вышел.
— Какая же я эгоистка! — корила она себя. Дура и эгоистка! Такой замечательный человек — великий человек — говорит, что она ему нужна! А она беспокоится только за свою драгоценную материальную оболочку! Ей было стыдно, ужасно стыдно. — Я ему так нужна, так нужна! И я его оттолкнула! Я оттолкнула его! Да как я посмела?!
Она прислушалась и услышала… да, это было приглушенное рыдание. У нее защемило сердце.
— О, профессор… — Она не могла это слушать. Это было невыносимо. Он там один, и он плачет, потому что он так к ней стремился, а она оттолкнула его… — О, Меф, Меф… — Она решительно встала со стула и направилась к двери. Она пойдет к нему и отдастся ему — полностью, целиком. Кэнди вспомнила, как сегодня утром она вышла из душа и посмотрела на себя, голую, в зеркало. Да, она очень красивая девочка. И она подарит ему всю себя, всю свою красоту — целиком, без остатка. Уже взявшись за дверную ручку, она пожалела, что не надела сегодня свой самый лучший комплект белья, хотя ладно: тот, который на ней, тоже очень хороший — свежий и симпатичный. За дверью снова раздался надрывный стон.
— Я иду к тебе, Меф, — прошептала она и тихонько открыла дверь.
Но молодой человек не ушел, и изумленному взору Кэнди предстало странное зрелище. Профессор и мальчик носились по комнате — оба голые, раскрасневшиеся, их одежда разбросана по полу как попало — и колотили друг друга мокрыми полотенцами, постанывая и рыдая.
Они не заметили Кэнди, а если даже заметили, то им сейчас было не до нее — они были полностью поглощены друг другом и своим странным занятием. Кэнди быстро закрыла дверь, пулей вылетела из кабинета профессора и побежала, вся в слезах, по пустынному коридору. Какая же она эгоистка, какая ужасная эгоистка… она оттолкнула профессора Мефисто, и он так огорчился, что… Кэнди даже не знала, что.
— О, как я могла?! Как я могла?! — повторяла она сквозь слезы. — Как я могла?!
Кэнди все-таки удалось успокоиться, так что домой она вернулась уже не в таких расстроенных чувствах; и еще ей не терпелось рассказать папе про «пятерку с плюсом» за сочинение.
Мистер Кристиан сидел в гостиной и читал газету.
— Привет, — сказал он и взглянул на часы. — Как прошел день?
При всей своей жуткой занудности, папа все-таки разнообразил свои приветствия и встречал Кэнди из школы то вопросом «Научилась сегодня чему-то полезному?», то вопросом «Как прошел день?», чередуя их по дням: день так, день так — причем никогда не сбивался и не повторял один и тот же вопрос два дня подряд.
— Хорошо, — Кэнди подошла к папе и чмокнула его в лоб. Принимая сие изъявление дочерней любви, папа лишь хмыкнул. — И еще у меня «пять с плюсом» за сочинение по философии. На курсе профессора Мефисто! А он если и ставит «пятерку с плюсом», то только одну на весь класс! Правда, здорово?
Вопросы мистера Кристиана были, конечно, чисто риторическими, но он все-таки интересовался успехами дочери, и если она о чем-то ему рассказывала, то он обязательно слушал — хотя бы вполуха.
— Да что ты? — от газеты он не оторвался, но при этом слегка нахмурился, как бы давая понять, что он просто бегло просматривает статьи, а так, конечно же, слушает дочь. — А тема какая была?
— «Любовь в современном мире».
Мистер Кристиан встряхнул газету и прочистил горло.
— Очень практично звучит, — сказал он и попытался изобразить смешок, чтобы обозначить свое отношение к философии как к предмету весьма несерьезному, но для подобного проявления чувств он был слишком сварливым и раздражительным человеком, так что он снова встряхнул газету, еще раз откашлялся и нахмурился, только теперь уже по-настоящему.
Кэнди сделала вид, что она ничего не заметила; она твердо решила насладиться своим успехом, как говорится, по полной программе, так что она не даст папе испортить ей настроение.