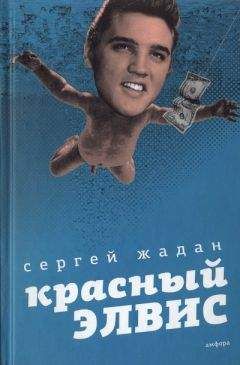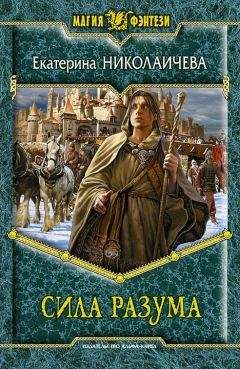Я, кстати, эту историю слышал дважды из разных уст. Мне ее потом пересказывал именно один из этих таксистов. В жизни он был нормальный спокойный чувак, но эту историю рассказывал со злостью и жестокими подробностями, акцентируя то на выбитом глазе, то на вырванных золотых зубах, то на телесных повреждениях братьев Лихуев, которых отвезли в больницу. Милиция взяла Густава и компанию через несколько часов — они получили свою долю коньяка и пили в парке неподалеку. Их затащили в отделение, сказали, что один из кавказцев вот-вот должен помереть, и тогда их всех засадят по полной программе, а отделение выполнит свой годовой план. Держали их около суток. В конце концов приехал начальник отделения, разочарованно сказал, что кавказец, скорее всего, не помрет, что таксисты отмазались, а у спортсменов связи в муниципалитете, и, прочитав скинхедам лекцию о дружбе народов, отпустил их на волю. Компания сразу же повалила на стадион. Наши, кстати, выиграли — капитан «Металлиста» Лаша забил единственный и победный гол, и компания счастливо вернулась домой. Наутро выяснилось, что их раненого друга подрезали в собственном подъезде. Милиция подозревала студентов, которые в подъезде покойного постоянно покупали анашу.
А Густав подумал: понятно, что они никого не найдут. Никто не найдет виновных, какие виновные могут быть. Попробуй найди этих виновных. Мы его просто похороним и снова пойдем на стадион. И снова будем пиздиться с кавказцами. В принципе, все справедливо — они ему два ребра сломали, как их не бить после этого. Но вот, скажем, Лаша вчера гол забил, а он тоже с Кавказа, так что теперь, на стадион не ходить? Густав даже не знал, что думать.
На похороны он не пошел, на стадион тоже больше не ходил, а через какое-то время вообще устроился волонтером в какой-то социальный фонд и начал заниматься распространением американской гуманитарной помощи.
— Я за него боюсь, — говорила мне его мама. — Пока он таскался по району и ходил на футбол, я была спокойна, я видела, что он знает, что делает, знает своего врага в лицо. А теперь я за него боюсь. Мне кажется, что он испугался и теперь пытается от всего отгородиться. На американцев стал работать. Со мной, — сказала она, — когда-то такое было. В восьмидесятых, мы тогда все время были на гастролях, ездили длинным обозом, перевозя в фургонах животных и декорации. Останавливались в маленьких городишках, жили в дешевых гостиницах. Я была совершенно независимой и делала то, что считала нужным. И вот в какой-то момент у нас начались отношения с одним клоуном, то есть он работал клоуном. У нас с ним все это началось именно на гастролях. Это был такой странный период в моей жизни, мы с ним ходили по запыленным солнечным улочкам, ночевали на крышах цирковых фургонов, занимались сексом на батутах, кормили диких африканских зверей, которые постоянно болели разной гадостью. А потом родился Густав, клоун меня бросил, и я почувствовала, что все изменилось, что я больше не контролирую ситуацию, что я начинаю бояться жизни, начинаю от нее отгораживаться, пытаясь что-то построить, возвести какие-то стены, что ли, ты понимаешь?
Я думаю, она хотела сказать мне вот что: пока ты остаешься свободным, пока ты отвечаешь за свои действия, пока ты называешь вещи своими именами, тебе незачем бояться жизни — она полностью зависит от тебя, полностью тебе подчиняется. Ты можешь разглядывать ее вблизи или отходить от нее на изрядное расстояние, ты можешь подгонять ее вперед или останавливать ее движение. Все в этой жизни зависит от тебя, пока ты сам ни от кого не зависишь. В то время как любая попытка выстроить защитные стены, попробовать окопаться, обезопасить свое существование и свою стабильность обязательно приводит к утрате контроля над ситуацией. Жизнь в этом случае выскальзывает из рук, как воздушный змей, и ты остаешься один на один со своим страхом и неуверенностью. Всякая попытка выстроить что-то постоянное в этой жизни заранее обречена на поражение — это то же самое, что строить дом посреди быстрой воды. Вода все равно снесет все твои строительные материалы, обтекая тебя холодно и равнодушно. У тебя всегда есть выбор — хвататься за случайные одинокие ветки, которые проплывают мимо тебя, пытаясь соединить их и задержать этот безудержный поток, или отдаться ему, этому потоку, позволить ему нести себя вперед, ощущая, как эта вода глубока, а это теченье — подвластно, и наслаждаясь возможностью проплыть еще несколько метров вместе со всей водой этого мира. Потому что до конца доплывет лишь тот, кто с самого начала не боялся утонуть, кто находил большую любовь, кто чувствовал сладкую радость, кто переживал настоящее отчаянье — вот именно он и доплывет до конца. Если, конечно, не обломается.
БЕРЛИН, КОТОРЫЙ МЫ ПОТЕРЯЛИ
© Перевод И. Сид
Мы набрали столько разной музыки, что слушать ее уже никто не хотел. Какие-то сербские народные оркестры, старые саундтреки, и вдобавок у Сильви в карманах как всегда было полно ее прибабахнутого нового джаза, который она всем рекомендовала и который, кроме нее, никто не слушал, поскольку этот новый джаз слушать просто невозможно. Мне вообще кажется, что, когда человек долго и настойчиво что-то рекомендует, это говорит лишь о том, что он сам все это только что придумал, например новый джаз; думаю, Сильви могла откопать эти записи где-нибудь у себя на студии в Праге, подпортить как следует пленки и теперь выдавать все это за атональную музыку. Хотя могла этого и не делать. Где-то между сиденьями нашего «рено», вместе с банками колы и путеводителями должна была заваляться еще пара альбомов старого доброго Лу Рида, как раз периода его наивысшего цветения и токсикоза; кассеты тоже, кстати, были чешскими, некая фирма «Глобус» шмаляла по горячим следам большой европейской трансформации на границе 80-х, выгребая все из золотых запасов поп-музыки, вот и старый добрый Лу Рид, что называется, попал. Но до него очередь, скорее всего, так и не дойдет — слишком энергично Сильви выстукивает пальцами по рулю в такт — если это можно назвать тактом — атональному месиву, которое, будто из мясорубок, лезет из охрипших динамиков, вмонтированных в переднюю панель.
— Сильви, это просто какой-то конец цивилизации! — кричу я с заднего сиденья. — Ты действительно в свободное время слушаешь это без принуждения?
Сильви смеется, но, похоже, шутки моей не понимает, да и что это, на хрен, за шутка — так, что-то типа ее атонального джаза. Наш приятель Гашпер, непосредственный и единственный хозяин авто, валяется на правом переднем сиденье и с трудом отслеживает ход событий. Вчера мы разошлись где-то в полтретьего ночи, перед этим долго пили, стараясь определиться, когда именно нам лучше выехать. Последнюю упаковку пива покупали уже на автозаправке, Гашпер разрешал себе иногда такие радости жизни — набраться пива и гонять по заспанной Вене, срезая на поворотах и сигналя одиноким жандармам. Возможность санкций его не пугала — у себя дома, в Любляне, он мог купить новое водительское удостоверение так же легко, как упаковку с пивом на венской ночной автозаправке. Мы еще сдирали с пива зажигалками металлические пробки, хотя можно было их просто скручивать, в объединенной Европе даже из пива стали делать фастфуд, американцы просто засирают мозги всему миру своими ноу-хау вроде пивных бутылок с резьбой на горлышке или холодного зеленого чая в металлических банках. В конце Гашпер рассказывал анекдоты про боснийцев, и мы разошлись, с тем чтобы уже в девять утра запаковать свои вещи в багажник «рено» и выдвинуться из мартовской холодной Вены непосредственно в направлении Берлина.
Сесть снова за руль Гашпер не отважился, надо было еще хоть как-то прийти в себя, и уступил водительское место Сильви, которая, как и положено юной порядочной чешке, пиво с нами ночью на автозаправке не пила, так что синдромов ненужных не имела, села себе за руль и ну рыскать утренними венскими улочками в поисках трассы на Берлин, поскольку дороги никто из нас, ясное дело, не знал; вернее, Гашпер знал, но не в таком состоянии.
Гашпер откровенно втыкает, тяжело вдыхает воздух и так же тяжело выдыхает его на бортовое стекло, отчего оно покрывалось теплым густым паром. Сильви наивно включает дворники и не может понять, почему запотевают окна.
— Сильви, это перемена давления, — говорю я ей. — Дворники здесь не помогут. Джаз, кстати, тоже.
Так уж получается, что я должен пить один. Между Сильви и Гашпером имеется джентльменское соглашение, что где-то там после условного пересечения австрийско-немецкой границы он сменит ее за рулем, а на автобане пить он все же не отваживается, так что я открываю очередную банку, содрав с нее чеку, и пытаюсь поддерживать разговор. В принципе первая сотня километров мне знакома, в прошлом году я ездил здесь автостопом, меня тогда подобрал какой-то безумный панк, который все время нервно пил спрайт, его сушило, похоже, он был с обкурки, но гнал-таки на Запад, не знаю уж, что там у него было, может, мама ждала, однако вид у него был несчастный. Когда я достал из рюкзака бутылку воды, он спросил, не водка ли это случайно, у вас же там в России все пьют водку, нет, не водка, говорю, и он весело рассмеялся. Тупой какой-то панк попался. Теперь я стараюсь пересказать все это Сильви, вылавливая ее внимание из атональных джазовых ям и пустот, Сильви соглашается — да, действительно тупой панк, ничего не скажешь; разговор не вяжется, и я открываю следующую банку, все равно пока что ничего интересного — голые пастбища, лесопосадки без листьев, печальная мартовская Австро-Венгрия, думаю, именно такой ее и запомнили русские пехотинцы весной 45-го, депрессивный довольно-таки ландшафт, вот они и хуячили налево и направо элитные дивизии несчастных национал-социалистов. В это время кассета кончается, но тут же начинает крутиться в обратном направления, новый джаз опять берет за горло, и я ищу под сиденьями забытого и засыпанного фисташками старого доброго Лу Рида. «Джаз — музыка для толстых», — говорю я Сильви и меняю кассеты.