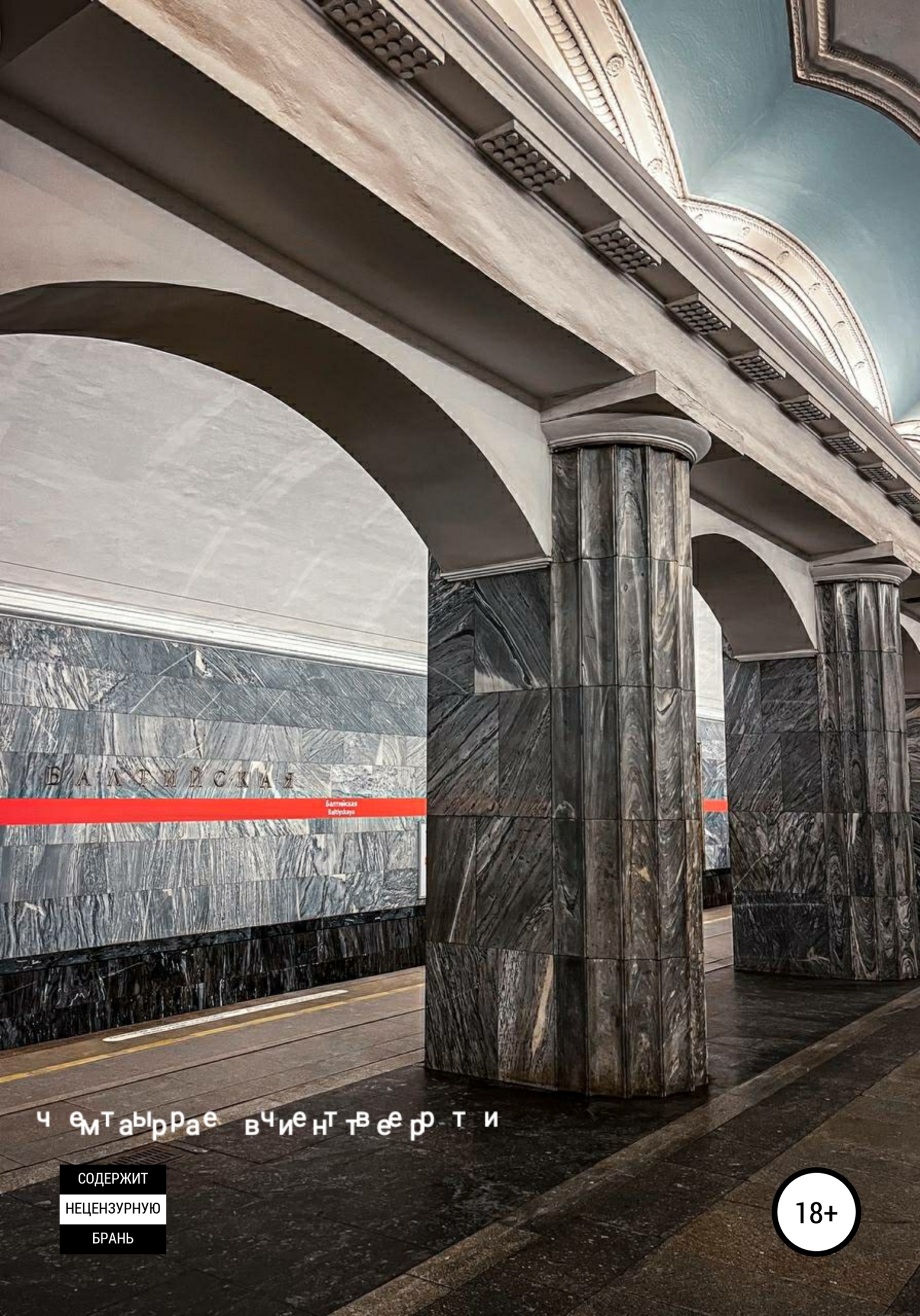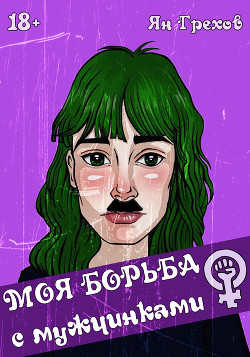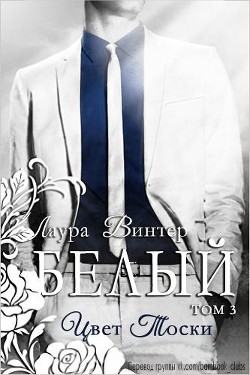Хогвартса: ничего не сломано. Магия, и только. Голова гудит. Лица, как одно. Тётино. Директорское. Марка… он-то откуда взялся?
– Вот он, медиатор, – показал брат. В его ладони. Взял меня на руки. Перенёс на парту. Уложил.
Кто-то выступает в защиту детей. Кто-то обвиняет отца. Не кто-то, а тётя, говорит про маму. Она не любила нашу маму. Мама к ней нормально относилась, на словах, по крайней мере. «Это у неё наследственное», – говорит тётя. Марк обрывает. Мне запрещают спать.
– Надо зашить, – математичка. – Сколько шрамов, боже мой… надписи какие-то. Десятый "А", вы чего забыли тут? Живо на урок, ваш распорядок в старом режиме! Снежков, Тришина, Зубченко! Куда вы все… – Лёша, Оля, Вася.
– Сложный подросток, – англичанка. – Вот что значит: растёт без матери…
– Воздуха ей дайте! Что столпились? – директор. – Не результат важен, а что случилось. Пересветова, Ранина, Кричко, – (ещё фамилии) – ко мне в кабинет, без разговоров! Я с вас всех шкуру спущу!
Поразительно, какими беспомощными иногда бывают взрослые. Ну, резанула. Ну, шире безопасного. Полежала бы, встала, сама перемоталась. Заросло бы.
Прилюдно – это сцена. Прилюдно – это драма.
– Всё хорошо, Мартиш, – сказал Марк, держа за руку, на коленях у парты. Его рука – по-уличному холодная. – Не слушай никого, – дыхание жемчужило ушную раковину.
– Марк, – сказала я. – Поехали домой. Прямо сейчас. Вдвоём. Домой. В Питер.
– Какой домой? – Тётя – Скворцова, не Оболенская. – Ты что устроила? Ты соображаешь, что теперь будет? В дурку тебя пихнут, и всего делов…
– Позвоните лучше отцу, – вежливо заткнул её брат. – Пусть вылетает немедленно. Решать вопросы такого рода будет он, никто другой, и уж особенно не мы с вами.
– Тебе на уроке быть положено! – прикрикнула на него Юлия Олеговна. И осеклась, под взглядом. Смертью залиты его глаза.
– Марк, – сказала я (никого больше). – Я была неправа. Я не имела права ставить тебе условия. Прости меня, пожалуйста.
– Нет, это я был неправ, – сказал он (никого больше). – Всё это время.
– Выключите камеры. У вас что, совсем башки нет? – окрик Макаренко. – Никаких психиатров, – насчёт меня. – Прямиком в хирургию.
Скорая была вызвана. Я, неизвестно, для чего, сложена на носилки. В кабине помощи – брат и тётя, ближайшие родственники. Последняя пыталась дозвониться папе. Но тот был Романом Олеговичем. Был занят.
Я подумала Марку, не озвучивая: «Подхвати, когда я перестану справляться».
Я подумала Марку: «Будь со мной, неважно, где, безо всех, ты один».
Рану пришлось шить. Пропаханная мной борозда расползлась. Сантиметра два. Я лежала на кушетке в травматологии, наотрез отказавшись от наркоза. Следила за иглой. За маской, из-под которой дышал доктор.
– Вены задела, – сказал он, подставив тазик, чтобы стекала кровь. Его эластичные перчатки запачкались, как у палача. – Умереть пыталась?
– Умирают вдоль, – сказала я. – А это поперёк. Пыталась остановить абсурд, но жизнь продолжается. – Около десятка пациентов с повреждениями разной степени тяжести ждали на кушетках, каталках и бетонном полу.
Врач был стареньким и седым и не приставал к родственникам с вопросами, насмотревшись на жертв уличных разборок. Чтобы не вызвали полицию (во славу репутации) Макаренко приплатил, кому надо, а кому надо, я так и не выяснила. Сотрясения нет. Ушибы. До падения сотряслась. В глазах ушиб.
– Большая потеря крови, надо бы прокапать, – сказали мне, – оформим в бокс. – Макаренко не поскупился.
– В рубашке родилась, – сказала одна медсестра другой. – Если Юлия Олеговна правду говорит, как она вообще цела осталась?
– Тихо, – перебила другая, постарше. – Юля только нам сказала, а не всему свету.
– Отец пока не может вылететь, – с неприязнью попрощалась тётя, беспокоясь о своём добром имени. – На орехи получишь, не думай. Нечего сухонькой выходить после таких мракобесий. Устроит Роман, мама не горюй. От дел оторвала отца…
Стены палаты выкрашены жёлтой краской. Кремовая тумбочка. Над постелью – длинный светильник для ультрафиолетового проветривания.
– Отец разберётся, – отрезал Марк. – Можете моему классу передать, чтоб не дёргались? – попросил. Петя Кривошеин высветился на дисплее телефона. – Ладно, сами передадим… алло? – поздоровался с трубкой. Тётя охолонула нас угнетённым взглядом и удалилась.
– Какогожблятьхуя? – сквозь помехи выдохнул Петька на громкой связи. – Вся школа на ушах стоит, Макаренко по одному восьмой "Б" насилует…
– Насколько я понял (меня там не было), Марта попыталась образумить одну бабу, которая ударила другую бабу, с которой моя сестричка приятельствует. – Сотовый в правой, левая – в моей ладони.
Марк – на стуле возле пружинной кровати.
Марк – неразгаданный шифр.
– Что за баба? – деловито уточнил, отбиваясь от Васи, что тянулся вырвать мобильник из его рук. Путём уговоров и угрозы расправой. – Вот малолетки охренели, ну! – Крик души. Под голосами всей гоп-компании.
– Не говори, – одними губами попросила я, – не надо разборок, хватит!
Благими намереньями мостили черти
дорогу в ад, и горел он, намереньями.
Холоден теперь ад. Холодны сердца людские.
– …и не говори, – согласился брат. – С одной из них я в больничке сижу. Гемоглобин у неё сниженный. Потому что не ест ничего, – высказал мне, – попробуй, сладь. Скоро выпустят. У Василия поговорим. Или подъезжайте в городскую.
– Л-ладно, – покорился Пётр. – Может, все с английского свалим. Придём по-любому. – Он отключился. Я включилась. Я сказала себе: «Не смей хандрить». До сих пор говорю. Медиатор вернулся на мою шею.
Что-то происходит, я на это реагирую, от моей реакции что-то происходит и т. д. Понять, какие круги даст камень, тобой брошенный, если и можно, то приблизительно, да ещё и с погрешностями. В окне снег, там. В окне духота, здесь. Ещё одна зима, ещё одно лето, в череде зим и лет. Кто-то говорит, я его слушаю и решаю, принимать на веру или нет, менять что-то в себе или нет. Кто я, среди многообразия? Через что определить себя, если жаждешь всего и сразу, без мировоззренческих границ (понять всех, примирить всех)? Речь не об игре: сейчас игра. Речь не о звуке: сейчас звук. Речь о том, что неизменно.
Марк лёг ко мне, под бок без капельницы, и обнял. Так и лежали. Глазами в потолок.
Один за двоих. Два за одного
Те, что говорят про империю, правы: здоровое (в мечтах) государство – она и есть. Те, что говорят про свободу взглядов, правы: здоровый (в мечтах) человек – уважает чужие мнения, отличные от его собственных. Те, что умеют слушать других, правы больше тех, чей рот активен, а уши – нет. Наслушаешься и думаешь: боже мой, мечтатели, научись мы думать об остальных, как о себе любимых, мир стал бы… не золотым, но хоть честнее. Нет: рассуждать про это мы любим, а на практике с туалетным упорством делаем всё, чтобы рай, здешний – не на небесах, не где-нибудь там или потом – никогда не наступил. «Кто хочет мира, пусть готовится к войне». Кто хочет рая, пусть идёт пряменько в ад. Кто хочет жизни, пусть встречает,