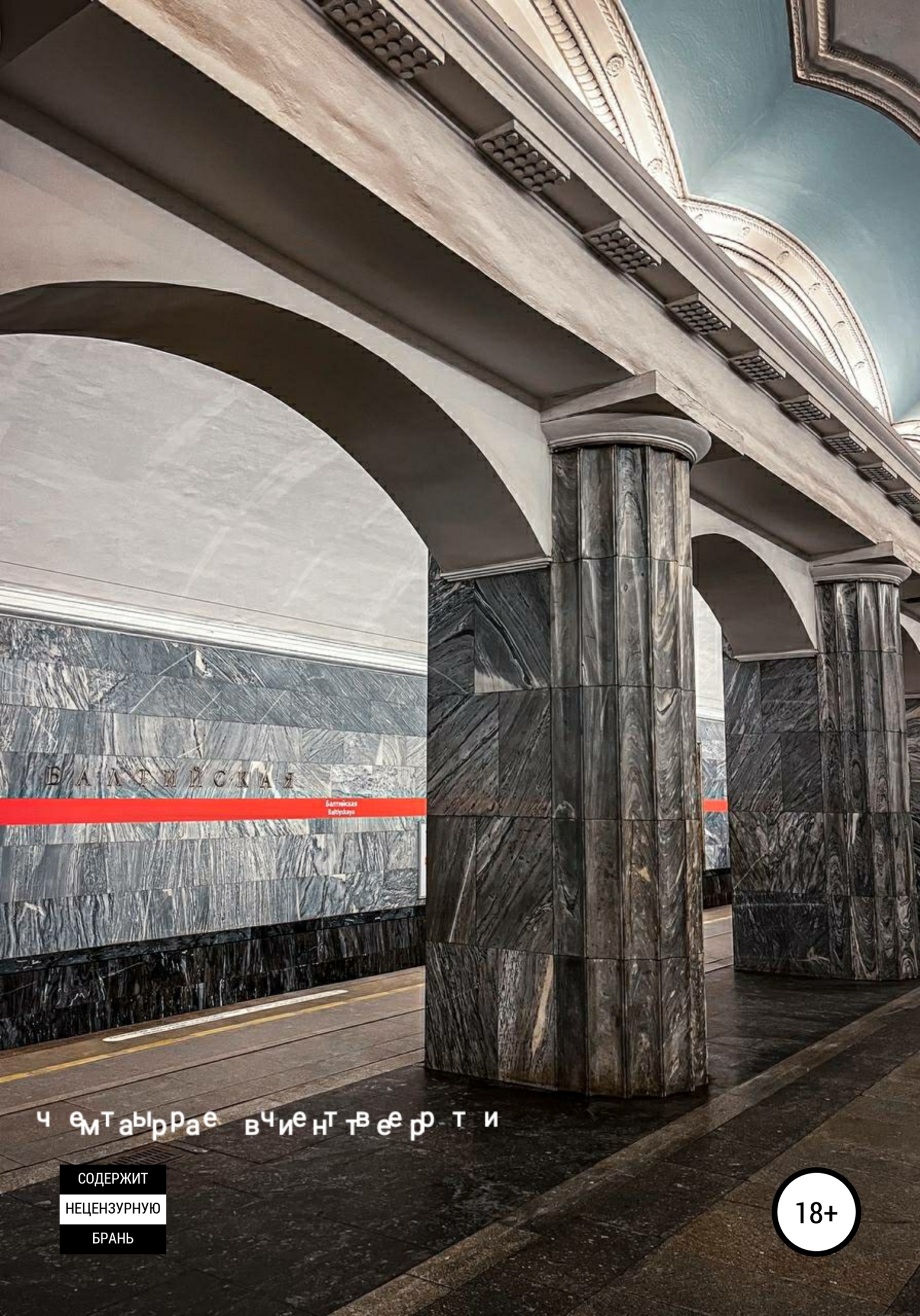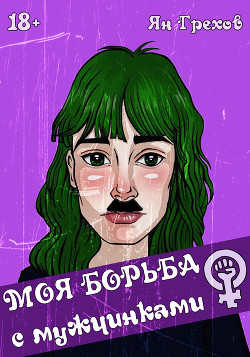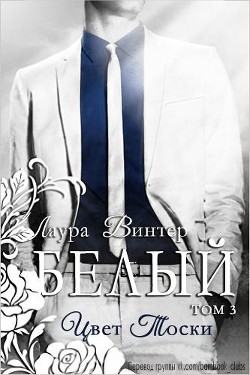Девушка повторяет: «Нет». Уйду, говорит. Уйду, если не примешь. Мать звереет: «Сама напросилась. Так даже лучше. Никаких клиник, и у стен есть уши. Сама справлюсь». Мать выбивает из дочери дурь. Ногами в живот. Успешно. Ногами по голове. В сервант за волосы. Успех отмечая.
– Сама виновата, – заключила шпионка.– Нечего плодить таких же безмозглых сук, пока приличные девушки сидят в одиночестве. Повезло… на первый раз, – ухмыльнулась, – нет человека, нет проблемы. Такие вот дела, нравится?
Выкидыш состоялся. Галин дебют в жёлтой прессе – нет.
– Расскажешь об Оле хоть кому-нибудь, – объявила я, сочиняя на ходу, – и я расскажу Вове, как, с кем и когда ты любезничала. Мне он поверит, совру, но поверит. Пока у тебя мало шансов. Откроешь рот, их не будет совсем.
В первую очередь я ему – сестра. И уже потом кто-то ещё. Если есть это ещё. «С тобой и за тебя, мразь привлекательная», – подумала я. В трясучке.
– Ты же обещала, про возмездие… – …Никто и не явится. Я явлюсь, да не к тебе. – (молчание) – Всё понятно? – Зачем ты руку порезала? – Чтобы кто-то что-то понял. – (молчание). – Я ошиблась. Тот, кто нас создавал, если был такой, ошибся. Ошибка мы… все мы. Тебе лучше станет, сделай ты Оле хуже? Представь себя ей. Представь себя на её месте. Тут появляюсь некая я, и разбалтываю всем. Как Эля про тебя. Хорошо тебе было? Легче будет, огласи ты про другую? – Информация правит миром, детка. Либо ты их, либо они тебя. Думаешь, ты такая крутая? Приехала, с Питера, столичная фифа, мы ей подмётки бить не годимся, ходит, как штырь проглотила, вся из себя мадам. Хочешь мира во всём мире? Или жизни хочешь? Выбирай. Одно из двух. То и то вместе – не получится. – (молчание) – Хочешь бежать, беги. В столицы свои. В заграницы. От того, что ты бежишь, наш пиздец никуда не денется. – Ты сама хотела бы бежать. Многие бы хотели. Почему бы на месте ни взять, да ни изменить, что есть? Радиация изнутри вытравила или что? – Много ты смыслишь. Оно веками стоит. – Я знаю. Любые вековые изменения с чего-то начинаются. Кремень и огниво. Огонёк, идея, преобразование… – Не парь мне голову. Шлюхи ебутся. Шлюхам Марки. Шлюхам Вовы. Дубинками лупят Марков и Вов. Их лупят. Они лупят друг друга. А я… у меня информация. Вали на свою Неву. Не место тебе тут… и нигде не место.
Кормить семью из троих детей за гроши.
Тащить, как хомут, мужа-алкаша, со всеми его друзьями и пьяными дебошами. Считающего себя падишахом, потому что… потому что.
Поддаться (такой естественной) страсти и носить алую букву.
Юлить, чтобы выжить, презирая подобное поведение в других. Читать книги о возможностях, в полях, зная: ничто не поможет.
Они так живут. Не первый век.
Сидела, сжавшись в комок. Телефон лежал рядом.
Когда я писала, смерть была сюжетом, как и боль. Проживая их в героях, я освобождалась от них сама. Если бы, теоретически, бог существовал, я бы
а) поняла его; б) считала его ужасным существом. Как и саму себя.
Хельга одна. Совсем одна. И не принимает помощь. Я же, в те дни (и ночи) боялась того, что такое человек. Другие и я сама. Я чувствовала их, других, мечтая перестать. Я думала: «Нет идиллий, нет справедливости, есть только перевёртыши, я и не-я, бытие и ничто, секс, смех и смерть. Зачем оно всё?»
Брат появился в палате, найдя балкон.
– Почему мать Оли так с ней? – зарядила ему в лоб. Он застыл у двери. У него в глазах… что? Что в его глазах? Меня швыряло, как в лихорадке, горло пережимало и болело всё, но, стоило ему посмотреть…
– Выяснила, чем мы занимались, – пожал плечами. – Ты сама как будто не в курсе. – Марк не знал про увечного ребёнка. И не узнал.
Я раскинула руки, встав во весь рост, на скрипучей кровати.
– Подойди ко мне, – проговорила. Слёзы подплыли к глазам. Ближе, чем им можно подплывать. Когда подошёл, я, слова не дав сказать, его поцеловала. Первая, сама. Мягкие губы. Гладкие щёки. Огненный танец в животе. Руки на моей спине. «Я всегда буду за тебя, – прошептала я. – Всегда за тебя, что бы ни случилось». Чуть выше его (а он – на полу), склонив лицо. Мои волосы, его волосы. Чёрные и тёмно-каштановые. Прядки сквозь пальцы. Дыхание было – и нет дыхания.
Где-то, не помню, где, я читала: через поцелуй двое понимают, подходят ли друг другу физически. Подходят, когда внутри пляшут черти. В нас плясали.
За дверью с грохотом передвигалась бабушка с едой. Такой одуванчик есть почти в каждой больнице. Автомедонт поваренной телеги.
Марк шагнул назад. Я удержала ноги на пружинах.
– Обедать будете? – пробасила старушка. – Здоровье поправлять. Это силы нужны… – «Нет, спасибо», – сказала я. «Да, пожалуйста», – сказал Марк. Мы переглянулись. – Так да или нет?
– Нам одну порцию. Если что, разделим, – нашёл он компромисс.
Мне было уже всё равно. В одном узоре с чертями летали бабочки.
Отец позвонил сам. Отец позвонил и пришёл в ужас. Он сказал, не мне, своему сыну: «Неделя. Выдержите одну неделю. Не пускай её, – то есть меня, – ни в какую школу. Если такая атмосфера сложилась. И сам не ходи. С Юлей вопрос решу. Через неё со всеми, с кем надо. Из больницы уходите. Береги её. Сам всё знаешь. Не могу сорваться. Хочу сорваться, но не могу. Никак».
Так мы и поступили. Закрылись в летней кухне. На неделю. Из всего времени, что я жила, она была лучшей. Как на заброшке, после взрыва. Будто никого и ничего не осталось, во всей планете (не считая перевязок). Их можно списать на погрешность. Два блока сигарет, запас еды, зима в окне. Мальчик, девочка. Девочка, мальчик. В ожидании большого и сильного мужчины, с чьим появлением кончится чужбина и начнётся дом.
В "Метаморфозах" поэт рассказывает о выжившей после потопа паре:
Девкалион, зарыдав, к своей обращается Пирре:
«Нас, о сестра, о жена, о единая женщина в мире,
ты, с кем и общий род, и дед у обоих единый,
нас ведь и брак съединил, теперь съединяет опасность, –
сколько ни видит земли Восток и Запад, всю землю
мы населяем вдвоём. Остальное всё морю досталось.
Примерно так всё и было. Только без стенаний. И среди людей.
Божественные безбожники
Не помню, кто сказал это мне. Жив он был или мёртв. Не я ли сама, живая и мёртвая, сказала. «Гений – это проводник крика». Древние считали, проводник – не сам художник, но его компаньон, некий дух. Видимо, с тех времён поезд успел сменить направление. Не сверху вниз, а снизу вверх. Крик к пустым небесам. Я