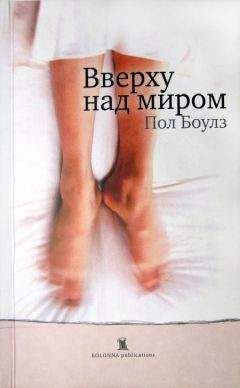Ей страстно хотелось ему поверить, но это было трудно, и возможно, она чем-то выдала свои сомнения.
— Хорошо, — сказал он, скверно ей улыбнувшись. — Его похитили и, вероятно, убили. Так лучше?
Не обращая внимания на иронию и принимая объяснение, она продолжила:
— Он пришел в себя?
— Если не в себя, то в кого еще? — нетерпеливо сказал он. — Давайте выйдем на улицу и выпьем. Потом вы вернетесь сюда и переночуете, а утром я заеду за Солерой, привезу его и заберу вас. Вы ведь этого хотите? Разве вы не за этим приехали в Сан-Фелипе?
Она рассматривала его с минуту. «Он по-прежнему считает, что может манипулировать мною, — презрительно подумала она, словно хоть что-то могло изменить ее отношение к нему. — И ожидает, что я дам отпор». Неожиданная уступчивость выведет его из равновесия, и она, возможно, перехватит инициативу в схватке. То, что она не могла представить их отношения как-либо иначе, очень пугало ей, но больше всего ее бесило, что она вообще вынуждена ввязываться в подобную борьбу.
Треск шутих и собачий лай не умолкали ни на секунду. Старуха все еще стояла, упираясь рукой в дверь, и наблюдала за ними, глубоко уверенная, что рано или поздно девушка сдастся. И действительно, вскоре та равнодушно обошла клетку, со скрежетом проведя тыльной стороной ладони по проволочной сетке, и зашагала к двери. Молодой человек быстро последовал за ней, улыбнулся старухе и осторожно подтолкнул девушку к выходу. Старуха кивнула, когда он проходил мимо:
— Claro. Una noche de fiesta.[50] — и закрыла дверь.
В холодном небе горели звезды. Они бодро шагали по безлюдным улицам, оставляя шум фиесты позади. На окраине города поднялись на скалистую возвышенность, которая господствовала над пустошью. У края стояли высокие деревья. Приземистое глинобитное здание впереди казалось очень маленьким. Через открытую дверь доносилась музыка.
— Хорошо сегодня ночью, — сказал он.
Главную комнату освещали только малиновые и оранжевые огни музыкального автомата. Столики были расставлены вокруг инструмента: десяток метисов сидел за ними в оцепенении.
За кафе располагался открытый сад с высокими соснами. Бамбуковые беседки среди деревьев были едва освещены. Люди сидели везде, и стайки детей носились в темноте, швыряя шутихи, которые разрывались посреди кактусов. Лишь когда Гроув провел ее через весь сад, она поняла, почему кафе построили именно здесь. Это был самый конец города, и задняя часть сада помещалась на краю мыса. Вдоль кривого парапета стояли другие бамбуковые хижины, и сквозь щели в их стенах пробивались полоски тусклого света. Он повел ее в дальний конец сада, и они зашли в палатку. Там стояла лишь одна маленькая скамья, и они сели бок о бок, окидывая взглядами неосвещенный ландшафт за перилами. В дверях показалась официантка-индианка в войлочных домашних туфлях. Гроув заказал хабанеро, но у них было только пиво.
Ей хотелось, чтобы ночь прошла как можно быстрее. По иронии судьбы, ей вспомнилась фраза из сна. Вот если бы рассвет и впрямь наступил скоро, и не было бы ни голой комнатенки, ни долгих часов ожидания на твердой кровати перед встречей с доктором Солерой. Из-за сухого шороха ветра, по временам дувшего в соснах, минуты тянулись гораздо медленнее.
Немного спустя индианка вернулась с ведром льда, из которого торчали две бутылки пива. Он оставила на столе открывалку и ушла.
По небу плыла луна; внизу Дэй смогла различить далекие темные каньоны, которых еще недавно не было видно. Блуждая взглядом по их смутным очертаниям, она вспомнила жуткое выражение, которое застала на лице Гроува в кухне, и ей показалось, что все силы, сделавшие неизбежной нынешнюю сцену, пробудились еще тогда и что с тех пор ничего не изменилось.
Он сидел, постоянно меняя положение, хотя скамья не была такой уж неудобной. Дважды он вставал с бокалом в руке и молча вглядывался в темноту за перилами.
Семейная группа прошла гуськом через весь сад и удалилась с громким смехом и болтовней. Затем в соседней палатке прогремел мощный салют. Послышался визг, и женщины закричали:
— Ay, Dios![51]
Наконец она сказала:
— Мне пора — замерзла по полусмерти.
Собственный голос показался ей как бы пропущенным через усилитель: нереальный, сиплый, интимный шепот.
Где-то сзади, в саду разорвалась еще одна большая шутиха. Несколько верениц меньших взвились над обрывом с треском и вспышками.
Не вставая, он перегнулся через перила и глянул вниз. Там была лишь тьма, и она знала об этом не хуже, чем он, однако неожиданно для себя уставилась в ту же точку невидимого пейзажа. На миг в саду у нее за спиной повисла такая тишина, что она расслышала слабый, далекий собачий лай.
Вскоре он сказал:
— Послушайте, Дэй.
Она ждала продолжения и, поскольку он молчал, повернулась к нему. В руке, лежавшей на бедре, он держал большой черный револьвер.
Въехав на грузовике в ворота, Торни захотел узнать, не спит ли еще Пабло. Его осенило, что в доме вообще никого нет. Ни прислуги, ни гостей, ни хозяев — лишь ветер, шелестевший листвой во внутреннем дворе.
Над генератором горел свет, а Пабло слушал радио, сидя на земле. Торни опустился рядом с ним, скосив взгляд, тогда Пабло встал на ноги и выключил свет. Снова присев на корточки, теперь уже прямо в лунном свете, парень швырнул Торни грифу.
— Pobrecita![53] Захотела проведать мужа в больнице?
— Да. Выруби двигатель. В доме никого нет.
Они курили до самого рассвета. Когда Торни побрел спать, в бледном утреннем свете внутренний двор показался ему запущенным; в его комнате было жарко. Где-то за шторами стрекотал сверчок. Заперев тяжелую дверь на засов, он прошагал к окну и с грохотом опустил жалюзи. Лежа на подушке, слушал, как сверчок снова и снова повторяет одну и ту же тонкую стеклянную ноту.
В два часа кто-то заколотил в дверь. Он вздохнул:
— О Господи! — встал и открыл.
Гроув стоял с термосом кофе, на листьях у него за спиной ярко сиял солнечный свет.
— Поехали, — сказал он. — Ты ведешь.
По дороге в столицу они не разговаривали. Длинные ряды безнадежных дальних трущоб розовели на закате, пока машина с откидным верхом катилась к городу.
— Сегодня утром Лючита улетела в Париж, — вдруг сказал Гроув. — Позвонила из аэропорта.
Торни закашлялся.
Они стояли на террасе квартиры Гроува и пили ледяное пиво, глядя на тускнеющий свет в западной части неба.
— Когда можно ждать перемен? — спросил Торни, хотя еще мгновение назад не знал, что вообще хоть что-нибудь скажет.
— Все уладится. А пока у тебя есть кредит. В некоторой степени.
— В размере ста тысяч, — произнес Торни без всякой интонации.
Гроув повернулся к нему.
— А не пошел бы ты домой? — обрезал он с разъяренным видом, готовый расплакаться, как мальчишка.
— Боже всемогущий! — Торни с грохотом поставил бокал на стол и вышел в sala. Гроув что-то прокричал ему вдогонку. Торни не двигался, ожидая намеков на то, что его работа была несущественной и не заслуживает оплаты.
— Я сказал: в определенной степени! — Гроув появился в дверях, черный и безликий на фоне угасающего неба. — Подумай. Где я их возьму, пока не получу?
Но слух Торни поразила незнакомая нотка замешательства в его голосе; он смотрел, как Гроув заходит в комнату, направляясь к нему, и решил, что настало время утвердить новый статус. Не платить за еду, возвращаться к себе домой и ложиться на действительно удобную кровать: вот и все, что пронеслось тогда у него в голове. Повернувшись, он вышел в фойе и остановился, заглядывая в голубую спальню, где ночевал, когда они вернулись из Пуэрто-Фароль. «Моя комната», — подумал он, вошел, снял куртку и обувь и рухнул на кровать. Подложив руки под голову, полежал немного, мечтательно глядя в потолок и ожидая, что будет: Гроув знал, что он все еще здесь.
Чуть позже он услышал, как Гроув вышел. Тогда он встал, потянулся, пошел и включил горячую воду в ванне. Пока та набиралась, побрел в кухню и сказал Мануэлю и Паломе, чтобы подали ему ужин в половине девятого. Медленно возвращаясь по террасе в спальню, остановился взглянуть мимоходом на бассейны и фонтаны: он никогда еще по-настоящему на них не смотрел.
В ванной он закрутил грохочущую воду, схватил большое турецкое полотенце и протер от пара огромное зеркало на стене: его широкие скошенные края причудливо искажали отражение. Он пару раз нагнул и поднял голову, наблюдая за тем, как меняется лицо. Затем послюнил грифу, закурил и наполовину разделся. Взяв из ящика изогнутые ножнички, принялся стричь ногти.
Добрый день (исп.). — Здесь и далее примечания переводчика.