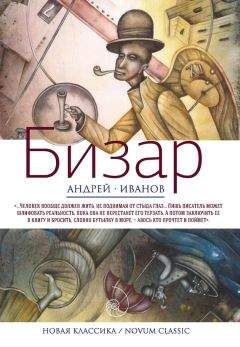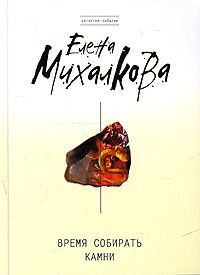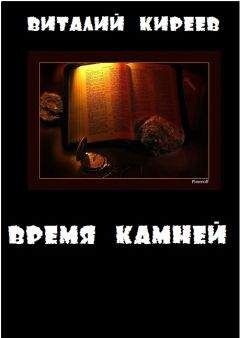Два-три раза за день прибегал бригадир. Он жил возле плантации, его работой было раздавать приказы, посещать рабочих, в остальное время он развозил навоз и химические удобрения, бензин для пил. В совсем плохую погоду он приносил нам маленькие бутылочки водки. Много шутил… Мы выпивали водку. Бригадир уходил, шумно хлопая голенищами высоких рыбацких сапог. Эдгар заводил трактор, я бежал по грязи за ним, от кучки к кучке, от елки к елке… дотемна! Последние песчинки света высыпались; разглядеть ярлычок становилось невозможно. Эдгар включал фары, но это не помогало… свет фар слепил глаза, цвета сливались… глаза слипались от усталости, снега, тумана, тьмы… Тело тоже упрямилось, сопротивлялось, спина не гнулась, ноги не шли; трудно было отыскивать в куче нужную тебе елку, выуживать из-под остальных, трудно было на ощупь определить, какой на лапке у нее ярлычок, особенно если ярлычка не оказывалось…
После девяти подходила фура… Ждали, покуривая, растворяясь в черноте. Смех бригадира. Голоса. Гасли один за другим огоньки сигарет, сквозь лес пробивались сильные фары неуклюжей фуры… Неудобная полянка. Никак не вписаться: каждый раз новый шофер, одни и те же вопросы. Каждый раз пристраивали к ней ленточный конвейер, настраивали, будто спаривая двух металлических монстров, пускали пробную елку, вторую, о'кей!
Мы с Эдгаром прыгали внутрь, как в прорубь копоти, прыг – нет тебя. Ни рук, ни ног – гулкие шаги и гулкий голос, всё. Липкий желтый фонарь метался над нами, но внутрь не заглядывал, бросал тени ветвей, они скребли по дну, подкашивая ноги, качало как в лодке. Эдгар стоял на краю кузова, криком сообщал, корнем шла елка или верхушкой. Он кричал: «Корень! Берегись!», елка падала с высокого борта, обрушиваясь, я шарахался в сторону. Шарил в темноте, уволакивал вглубь, укладывал. За ней шла другая. Уже шлепнулась за спиной, ее волок Эдгар. Чтобы впотьмах не сталкиваться лбами, мы укладывали их в разных углах. «Верхушка!» – принимал спокойно. Корнем пошла – прижмись к стене! Опять корнем! «Верхушка!» – хватай! тяни! укладывай! Ходить по ним было невозможно. «Корень!» Елка ударила в плечо, плечо помертвело, но быстро отошло, и скоро я привык… ко всему… туман, елочки, сетка, трактор, фура, туман, бригадир, горький кофе с мастыркой, грубоватый юмор с плеча рубленной фразы, щепки смеха, резиновые солдаты с пилами меж поваленных елей, начальник с блокнотом, липкие сумерки, слепота ночи, конвейер, влага, озноб, остервенение, сетка, пальцы, зубы, занозы, елочки, остервенение, туман, елочки, грязь, мразь… все это кончилось под Рождество.
Эдгар принес деньги. Большая пачка пятисотенных и дюжина соток и даже монеты (не только десятикроновые и двадцатикроновые, но и – øre[50]!). Шестнадцать тысяч с лишним! Почти семнадцать штук! У меня в глазах потемнело… Неужели все это мне? Эдгар открыл тетрадь, ежедневник, там были записаны все наши вылазки в поля, все наши работы, все виды работ, расценки за каждое движение, за ночную возню на дне фуры платили больше всего… накинули за непогоду… Эдгар очень подробно все записал… Хочешь проверить?.. Я ему доверял… Но он все-таки попросил, чтоб я пересчитал. Я пересчитал. Он кивнул, сказал, что весной будет проще, если я не передумал… Я не передумал. Он ушел. Даже подписи не взял! Пачка денег. Куда их деть? Две с мелочью сразу спрятал в карман на текущие… Быстро подобрал металлическую баночку, в каких Абеляр хранил траву, завернул толстую пачку пятисотенных в серебряную бумагу, закрыл крышкой и давил, пока не щелкнуло. Минут двадцать ходил с банкой по домику, размышляя, куда бы спрятать… куда бы засунуть это сокровище. В конце концов решил – под половицу! Давно собирался ее заколотить. Надежное место.
* * *Накупил вина, пива – на еде по-прежнему экономил: рис, хлеб, гора банок тунца, макароны, консервы, макароны… Неделю не вылезал. Пил и спал, ждал… ждал, когда приедет Дангуоле.
Она писала… Два раза в неделю я находил ее письмо в холщовой сумке с вышитой дудкой и короной, сумка заменяла почтовый ящик, она висела на двери Коммюнхуса. Я закрывал глаза и запускал в нее руку. Материя щекотала. Нащупывал письма. Доставал с закрытыми глазами, нюхал, пытаясь определить, есть ли среди них от Дангуоле.
Она любила писать письма – так много писала родителям! Это было так важно. Они писали чуть реже. Но все-таки… Незримая нить была протянута. Одно то, что эта ниточка тянулась в Прибалтику, заставляло меня напрягаться – словно статический заряд, во мне копилось беспокойство. Она часто упоминала в своих письмах меня. Не меня лично, конечно, а Евгения, фантом… и все равно я нервничал, потому что это были сигналы обо мне, пусть с моим искаженным образом, пусть не целенаправленно в Эстонию, а в Литву, и тем не менее весточка обо мне – оттиск моей печали, отголосок моей радости – летела в Прибалтику.
Морозным розовым днем пошел топить Коммюнхус и в почтовой сумке нащупал письмо от дяди, а там: Милый друг, если ты меня слышишь…
Мать писала стихами… тишина и сумерки наполняют мои дни разливаются по стенам и потолку уличные огни… кое-где без знаков препинания… обострился токсоплазмоз… совершенно внезапно подскочила температура… боли в паху и подмышках… вздулись лимфатические узлы и так далее… Вспоминала проклятого котенка… он сам мне в руки прыгнул… слышу, где-то плачет… и вдруг перебегает дорогу и прямо мне в руки прыгает маленький скелетик в мышиной шкурке куцый хвостик ушки прозрачные…
Мне было двенадцать. Котенок болел, мама выходила его; он пожил у нас пару лет и ушел, завел семью в соседнем подвале… я его встретила он мне в глаза посмотрел и повел, а у него там – гнездо и семеро котят… Через много лет мама заболела. Врачи долго не могли определить, в чем дело, я жутко переживал, она лежала в больнице, ходил, приносил ей книги, она просила – эзотерическое, Рериха, Клизовского, Сай-Бабу и т. п., она мне записки писала: простокваша творог Нектар преданности Говинда Ровнер Франклин Меррелл-Волъф… За простоквашей ходил к деду, меня нагружали… мать отказывалась, нес им обратно… каждый раз одно и то же… Ее соседки по палате жадно расхватывали книги, многое так и ушло по больнице (она же блаженная – раздавала, а я в библиотеку носил свои взамен)… Месяц тянулось… Давали сульфадимезин и еще какое-то чешское лекарство; сказали, что вылечить это невозможно, болезнь будет протекать в скрытой форме. Теперь опять началось… И скучно и грустно, и некому руку подать… Переполнило; пошел покурить к Клаусу, но его не было – он куда-то уехал. У меня кончилась травка – такое письмо спалило все внутри меня и все запасы. Эдгар отсыпал щедро, не глядя. Покурил в Коммюнхусе – опять придавило.
Обернись три раза вокруг своей оси перекрестись во всех направлениях сплюнь три раза через левое плечо…
Все пошло кругом – маски, пианино, шкуры, контрабас… Я чувствовал себя как конопля, срезанная и вверх корнем подвешенная, – все вокруг было таким нелепым! И что-то ворочалось внутри, бродили какие-то слова… Я подбрасывал и подбрасывал уголь в топку, чтобы отвлечься, выходил подышать, умывался… Лепнина, прялка, шкура… Стоп! Уголь, уголь… Пока не услышал в печи гул – ровный, пугающе спокойный, как рычание дикого зверя. Вспомнил, что так гудела чернота во время урагана на Лангеланде, и тут же в голове сложилось мое отношение к родителям. Оно уместилось в двух коротких фразах: отца я выгнал из дома, мать бросил помирать одну. Точка. Ничего больше. Ты можешь часами мучиться, выворачиваться, искать каких-то объяснений тому, что с тобой происходит, головной боли, бессоннице, пустоте, тяжести… а суть оказывается такой простой, такой краткой, безжалостной и холодной, как скальпель.
Не выдержал, поехал в Копенгаген…
На обратном пути в Роскиле встретил Ханумана. Он вырос передо мной из-под земли. На плечах снег, в глазах – подозрение. Изменчивый свет флуоресцентных огней искажал его черты. Волосы были влажные и приглаженные. Он выглядел так, словно только что вышел из парикмахерской или сошел с витрины. Я предложил ему грибов, от которых меня немного носило. Я был истомлен волнами, меня перло часа четыре.
– Пешком от Кристиании, через Ингхавпарк к вокзалу и всю дорогу в поезде, и у викингских лодок в музее на пристани тут тоже накрыло пару раз… – рассказывал я.
Он слушал, криво ухмыляясь, кивал: «Wow, what a fucking long trip!»[51] Но отказался.
– Без того тяжело на душе. Знаешь, так тяжело, мэн, что… если грибы сверху кинуть, может заняться пожар души, – сказал Хануман. – Может, курнем лучше в сторонке, чтобы расслабиться?
Я сказал, что неплохо было б покурить дома, в тепле.
– Дома – это где? – хмыкнул он.
– Хускего, – сказал я. – Поедем?
Ханни сморщился; видно было, что он совсем не хотел куда-либо ехать. На несколько глубоких мгновений провалился в задумчивость, аж постарел. Сухо попросил отсыпать. Я сказал, что отсыплю, само собой, но покурить вместе, как в старые добрые времена, было бы просто здорово. Он сказал, что было бы на самом деле здорово, но у него масса неотложных дел… он кое-кому кое-что обещал… помимо всяких неприятностей, в эту ночь он должен был зарегистрироваться в Авнструпе… потому что он уже давно не объявлялся, и его лишили пособия, он звонил, скандалил, ругался, ему выдали только половину, сказали, что и то хорошо. Он развел руками, вздохнул: