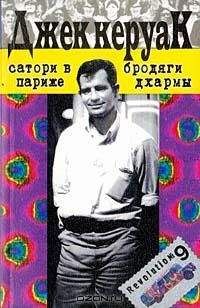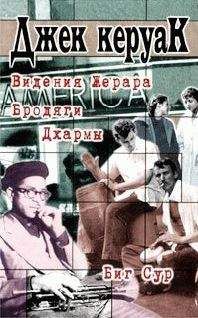Дети во дворе не обращают на меня внимания, либо так, либо потому что я призрак, они меня не видят.
Потакетвилль погромыхивает у меня в обеспокоенной призраками голове…
Вечер дождлив, на Мосту Муди-стрит бедный старый работяга Джо Плуфф. Тем вечером он направлялся к мануфактурам Мельничного пруда с обедом, который вдруг метнул ввысь, в ночные небеса — Джи-Джей, Елоза и я сидели на парковой травке пятничного вечера, за оградой, и, как миллион раз прежде, вот идет Джо со своей обеденной коробкой под бурыми аурами фонаря на углу, они освещают все камешки и вымоины улицы — только сегодня мы слышим странный вопль и видим, как он подбрасывает обед, взметнув повыше руки, и уходит, а обед приземляется, он идет в бары дикого вискаря, а не на мануфактуру тупорыловки — единственный раз мы видели Джо Плуффа в возбуждении, в другой раз на баскетболе после ужина, на моей стороне Джо, у Джи-Джея Джин Плуфф, и братья давай толкаться жопами, шмяк, ненавязчивое коленце бедром, с ухмылочкой, а силы в толчке столько, что наземь сшибает, и когда Джин, который поменьше (5:01), хорошенько заехал Джо, тот, побольше (5:02), весь побагровел рожей и так ему вмазал бедром тайком, что Джин вмиг остолбенел и залился румянцем, ну и дуэль, мы с Джи-Джеем, бледные, оказались в ловушке меж титанов, то была великая игра — обед Джо вообще-то приземлился футах в двадцати от известной баскетбольной корзины на дереве —
Но теперь дождливая ночь, и Джо Плуфф, смирившись, съежившись, спешит в полночь домой (автобусы больше никакие не ходят), нахохлившись супротив холодных мартовских дождеветров, — и глядит через широкую тьму на Змеиный Холм за мокрыми кустами — ничего, стена тьмы, даже тусклого бурого фонаря нет. — Джо идет домой, останавливается слопать гамбургер в «Текстильном обеде», может, нырнул в наше парадное с морщинистым гудроном зажечь чинарик — Затем повернул вдоль по Гершому на угловом дожде и пошел домой (а трагические розы цветут на дождливых задворках полночи, и в грязи потерялись шарики-ролики). Едва Джо Плуфф отрывает пятку от последней доски настила, вдруг видишь слабый буроватый огонек — зажегся вдали в мостовой ночи, сутулясь, весь темный, пронзительно смеясь: «Муии-хи-ха-ха», — растворяясь, перхая, безумный, маньячный, под капюшоном, зеленолицый (недуг ночи, Визагус пачконочий) вплывает Доктор Сакс — повдоль скал, ревов — вдоль крутого берега свалки, спешит — плеща, плетя, плывя, слетая к камышовым низинам Роузмонта, одним движением вынимает резиновую лодку из широкополой своей шляпы и надувает из нее маленькую гребную шлюпку — и гребет резиновыми веслами, красноглазый, нетерпеливый, серьезный, во мраке дождей, и бито-замахов, и мачтуманов в шепотном реве — реальная река — не спуская глаз с Замка — а тут через всю котловину этого Мерримака на рьяных птичьих крылышках маленький Граф Кондю-Вампир, кости что у летучей мыши, спешит к своей мешковатой пыльной раскрошенной старой подружке в невыразимой бурости Замковых дверей, О призраки.
Граф Кондю прибыл из Будапешта — ему подавай добрую венгерскую землю, чтоб лежать себе спокойненько долгими скучными днями европейской пустоты, — и вот он полетел в Америку дождливой ночью, днем спал в своей шестифутовой песочнице на борту судна Н. П. М.[15] — прибыл в Лоуэлл пировать гражданами Мерримака… вампир, летящий в дождливой ночной реке со старой свалки вдоль поля за Текстильным ко брегам Сентралвилля… подлетает к дверям Замка, располагавшегося на верхнем краю сновидящего луга у перекрестка Моста и 18-й. На вершине этого холма, симметрично старому каменному дому-замку на Лейквью-авеню у Люпин-роуд (и давно утраченным франко-канадским хрюкокличкам моего младенчества), стоит Замок, взметнувшись ввысь весь, королевский маркшейдер лоуэллских монарших крыш и опорных дымоходов (О высокие красные трубы Бумагопрядилен Лоуэлла, высокий краснокирпичный ляпсус «Бутта»[16], что покачивается в предельных тучах дикого ура-дня и грезогудкового его окончания —)
Графу Кондю хотелось, чтоб его цыплят ощипывали как надо — Он прибыл в Лоуэлл вместе с великим общим наступлением зла — в тайный Замок — Граф был высок ростом, худ, орлинонос, носил накидку с капюшоном, белые перчатки, глаза сверкали, сардоничен, герой Доктора Сакса, чьи лохматые брони настолько застили ему взор, что он едва ли видел, что вообще делает, скача по ночам через свалку, — Кондю пришепетывал, был остер на язык, аристократичен, язвителен, блядорот, словно какой-то бескровный простофиля, балабон с кашегубами, что впухли вовнутрь и мокропляют как бы тоненькими висячими мандаринскими усами, которых у него не было, — Доктор Сакс был стар, вся сила его жвал Хокшо[17] истрачена на возраст, немного просел (слегка напоминал Карла Сэндберга[18], но по контуру облеплен саваном, высокий и худой, если тенью на стене, а не на миннесотской дороге, гуляя по вольному воздуху, весь кудрявый, распрочертовски радостный во дни святости и Мира —) (Карл Сэндберг, переодетый в темную шляпу, как я видел однажды ночью в ямайско-негритянском районе Лонг-Айленда, в квартале Даун-Стада, на задворках Сатфина, где он шел по долгому трагично освещенному бульвару островов и покойницких неподалеку от лонг-айлендских железнодорожных путей, только что с монтанского товарняка) —
Летучая мышь растворилась из воздуха и материализовала у дверей Замка Графа-Вампира в вечерней накидке. La Contessa de Franziano, отпрыск валлийских додонов, свалившаяся с триремы у побережья Ливорно в те времена, когда там еще были средневековые стражи на стенах, но утверждавшая, что она чистокровная Франкони из потомков тех еще Медичи, подошла к дверям, озолоченная быстро ветшающим старым кружевом, где паутинки сплетали нити и спекалась грязь, когда она гнула спину, с жемчужиной в подвеске, на которой спал паук, глаза все ох-долу, в голосе сплошь пустословье в резонансном чане — «Дражайший Граф, вы прибыли!» — она целит в двери всхлипывающими дланями, распахивает их дождливой ночи и редким тусклым огонькам Лоуэлла о другой край котловины — Кондю же стоит твердо, сурово, чопорно, бесстрастно, нацистски, стягивает перчатку — втягивает вдох, чуть пшикая губами и вссапывает — с хрипом —
«Дорогая моя, как бы я ни был якобы невозмутим, уверен, выходки маленьких гномих не чета вашим, когда старый Сахарный Пудинг возвращается домой».
«Как же, Граф, — журчит Одесса, девочка-рабыня (Контесса в лагере), — как вам удается такая живость еще до вечерней крови — Рауль только начал мешать Ныряльщиков —» (Ныряльщиков из Всяко-Всячины).
«Он со своим прежним Пшютом на колокольне, имея в виду, разумеется, миссис Колдун Ниттлинген[19], будь проклята к чертям ее ветхая шипастая пердель».
«Ну я полагаю — »
«Прибыл ли из Будапешта мой ящик?» — осведомляется Граф (а в миле от него Джо Плуфф успевает к углу Риверсайда, опередив порыв дождя).
«…бюрократические проволочки, Граф, предотвратили всякое подобие прибытия вашего ящика до исхода Круговорота».
«Пфуй! — хлопнув перчатками. — Я вижу, это станет еще одной провальной миссией — искать пук для старой пукорожи — тощешеяя личность — кто еще есть?»
«Блук. Шпляф, его чокнутый громила-ассистент. Мряф, его отпадший дятел с крабьей башкой —»
«И?»
«Кардинал Акры… предлагает свою сарабандовую брошь на кожу Змея — если можно вырезать кусочек… в обмен на брошку…»
«Так скажу, — Вамп-Граф склабится, — они внай чертовски удивятся, когда крестьянству достанется… подливка от этого змея».
«Считаете, выживет?»
«Кто пойдет его убивать, чтоб оживить?»
«Кто захочет его убить, чтоб выжить?»
«Парижаки и Попы — найдите им то, с чем единоборствовать лицом к лицу, да еще чтоб ужас и кровопролитие в перспективе — они удовольствуются деревянными крестами и разойдутся по домам».
«Но старый Колдун хочет жить».
«С той формой, что он принял в последний раз, я бы не брал в голову —»
«Кто такой Доктор Сакс?»
«В Будапеште мне говорили — старый сбрендивший дурень. От него никакого вреда не будет».
«Он здесь?»
«Здесь — предположительно».
«Ну а — как долетели?» (умеренно) «Разумеется, теперь у меня для вас есть ящик с доброй американской почвой, где можно спать, — Эспириту вам ее накопал — за вознаграждение — взымет с вас наверху — а эквивалент К (поскольку денег он никогда не увидит, стало быть, жаждет лишь крови) можете оставить у меня, когда раздобудете, и я ему уплачу — он все ноет и ноет —»
«У меня и сейчас К есть».
«Где достали?»
«У молоденькой девушки в Бостоне, когда сошел в сумерках на берег, около 7, на Милк-стрит снежок вьется, но потом пошел дождь, весь Бостон в слякоти, я втолкнул ее в закоулок и куснул под самой мочкой, высосал с пинту, а половину сберег в золотой банке, чтоб утром на сон грядущий приложиться».