— Пойдем, может, вдвоем добудем!
В дыры крыши пробивались солнечные лучи, и множество солнечных зайчиков было рассыпано по грязному земляному полу с оленьей шерстью, обглоданными костями.
— Что летом будешь делать? — спросил Каширин. — Может, подашься со мной на Волчью? Глядишь, заработаешь на домик и поставишь настоящее человеческое жилье…
Тымнэро отрицательно покачал головой.
— Чем плоха яранга? Главное, чтобы горели жирники, чтобы было тепло да еда.
— Скромное, однако, у тебя желание, — задумчиво произнес Каширин. — Что там случилось на радиостанции? Асаевич и Тренев забегали, как потревоженные тараканы.
— Какая-нибудь новость, — равнодушно ответил Тымнэро, прихлебывая горячий кипяток. — Скажи, могу я купить плитку чаю на вот это?
Тымнэро показал деньги.
— Полплитки дадут.
— Значит, сегодня хорошего, настоящего чаю попьем, — обрадованно сказала жена Тымнэро, — Приходи, Каширин, угостим
— Приду, — быстро согласился Каширин, продолжая думать о странном поведении радиста и Тренева. — А как твой родич, все изобретает письменность?
— Давно не было вестей от Теневиля, — ответил Тымнэро. — Однако не на чем ему чертить. Бумаги нет.
— Пошлем ему бумаги, пусть старается парень, — пообещал Каширин. — Ты понимаешь то, что он пишет?
— Немного понимаю, — ответил Тымнэро и достал откуда-то из глубины чоттагина гладко оструганную дощечку. Поднеся под солнечный луч, Тымнэро показал ряды значков.
Каширин легко догадался о знаке, обозначающем Ново-Мариинск — на дощечке были выцарапаны изображения железных мачт радиостанции.
— Надо же! — с нескрываемым изумлением произнес Каширин. — А что, придет время — и собственная грамота будет у чукчей.
— Коо, — с сомнением произнес Тымнэро. Послышался скрип снега, и в чоттагин вошли
Асаевич и Тренев. Они не ожидали застать здесь Каширина и в замешательстве остановились.
— Еттык, — с удивлением и растерянностью произнес Тымнэро: эти люди никогда не входили в чукотские жилища.
Тренев глянул на Каширина и сказал:
— Дело государственной важности. Надо поехать в угольные копи и позвать людей на сход.
— Что же случилось, господа хорошие? — с насмешкой спросил Каширин. — Россия германца победила? Или миром покончили войну?
— Его величество Николай Второй отрекся от престола, — строго сказал Тренев.
— Шутишь? — Глаза Каширина широко раскрылись от удивления. Любой новости он ожидал, но такую…
— Истинно так. — Асаевич в знак доказательства перекрестился.
— Слышь, Тымнэро, — сказал Каширин, — царь-то наш, Солнечный владыка, с трона того…
— Навсегда? — с изумлением спросил Тымнэро. — Чего это он? Ослаб?
— Похоже, что ослаб, — согласился с ним Каширин.
Тренев строго глянул на Каширина и процедил сквозь зубы:
— Дикарю-то знать это ни к чему, все равно не поймет… Надо создать Комитет общественного спасения, охранять порядок, чтобы не было погромов, насилий, грабежей.
— Уж хуже того, что было, навряд ли будет, — заметил Каширин, еще не пришедший в себя от такой новости. — Какая же власть в России нынче? Неужто германца кайзера?
— Власть в Петрограде перешла в руки Временного правительства, — сообщил Тренев.
Анадырский народ сходился в уездное правление, заполняя большую комнату. Уже некуда было протиснуться, а люди все прибывали.
— Верно ли, что царь приехал в Петропавловск и оттуда дал телеграмму? — спрашивал широкоплечий шахтер в оленьей кухлянке.
— Какая телеграмма? — отвечал рыбак Ермачков, мужичок неопределенного возраста, со сморщенным лицом. — Преставился ампиратор, нового будут выбирать…
— А наследник?
— И наследник отперся от престолу… Не хочет царствовать. Отказывается.
— Чего он так доспел? Сдурел… Кто ж добровольно от царства отказывается? Что-то напутал радист. Не пьян ли был, когда слушал-то?
— Тверезый, кажись…
Подталкиваемый Треневым, Асаевич встал на табуретку, держа в руках бумагу с расшифрованным телеграфным текстом.
Притихшая толпа внимательно выслушала телеграмму, подписанную Чаплинским, а за ней другую — уже от имени Петропавловского комитета общественного спасения, в которой предлагалось избрать такого же рода комитет и в Анадырском уезде.
Слово взял Тренев:
— Комитет общественного спасения будет осуществлять полноту власти в уезде, согласуя действия с Временным правительством в Петрограде, с правительством демократического большинства. Самодержавие пало, да здравствует конституция!
Многие не поняли последнего слова и загалдели, требуя объяснения.
— Конституция — это правление без царя, — пояснил Тренев. — Граждане, просим высказать свои предложения по составу комитета.
Каширин протолкнулся вперед, отстранил секретаря уездного правления Оноприенко и крикнул:
— Граждане анадырцы! Есть такое соображение — власть-то чья? Народная! Народ-то, он разный. У одних, значит, и сети и рыбалки, у других ничего, окромя старательского лотка. И еще — как местный народ? Будет ли он к новой власти причастен или же нет?
— Понятие народа — понятие демократическое, — принялся объяснять Тренев. — Народ включает в себя представителей всех сословий, но могущих нести ответственность за безопасность населения, печься о благе и иметь соображение…
— Ты говори прямо, Тренев, не юли, — тихо, но внятно попросил его Каширин,
— Местное население по причине крайней дикости, невежеству и склонности к пьянству не может быть привлечено к управлению краем…
— Посмотришь — вокруг — одни трезвенники, — зло заметил Каширин.
Начали выкликать имена будущих членов комитета.
Первым был назван Асаевич. Видно, телеграммы, которые он принимал, неожиданно повысили его авторитет.
Тренев, примостившись у края стола, записывал фамилии.
Рыбак Ермачков выкликнул:
— Петра Каширина в комитет!
Кроме Каширина, в комитет прошли делопроизводитель уездного полицейского управления Мишин, Иван Тренев, промышленник Бессекерский и еще несколько человек. Уездным комиссаром после долгих споров был избран Матвей Станчиковский, бывший помощник начальника полицейского управления.
Возбужденные, но несколько растерянные расходились по домам жители Ново-Мариинского поста.
Начальник Анадырского уезда Царегородцев подъезжал к Ново-Мариинску со стороны Туманского мыса. Каюр Иван Куркутский, имевший родичей и знакомых по всей тундре от Ново-Мариинского поста до Маркова, правил собаками и пел песню, в которой смешалось все — и радость по поводу возвращения домой, и прямые намеки на то, что высокий начальник будет щедр при расплате и поверх всего выдаст бутылку огненной дурной веселящей воды.
Царегородцев, намерзшийся и предельно уставший за долгую поездку, наглядевшийся на нищету и грязь, испытывал не меньшую радость по поводу возвращения, предвкушая горячую баню, чистую теплую постель и жаркое тело своей благоверной.
Сердце и душа таяли при этих мыслях, и он, прервав песню каюра, громко сказал:
— Ладно, Ваня, будет тебе бутылка…
— Спасибо, вот спасибо! — Каюр обернулся на пассажира. — Я всегда думал, что ты широкий человек и душа твоя щедрая… Да не обойдет тебя милостью своей бог…
Куркутский перекрестился.
— Скажи, Ваня. — Царегородцев старался найти удобное место на мерзлых рыбинах собачьего корма. — Какого же роду-племени ты человек? По наружности ты вроде бы на чукчу похож, но крестишься да и по-русски похоже говоришь…
— Верноподданный его ампираторского величества, — быстро ответил каюр, — слуга царю и православной церкви…
— Да не об этом речь, — нетерпеливо сказал Царегородцев, — я спрашиваю про породу вашу. Язык ваш вроде бы русский, но черт знает чего вы туда понамешали… Будто бы российский говор, а понять ни хрена нельзя. Да и обличье ваше… Иной раз поглядишь — дикарь дикарем, а в другом виде вроде бы русские. Одно утешение — бабы ваши больно красивы да ласковы.
— Это верно, — крякнул каюр. — Бабы наши, мольч, скусные…
— И что это за словечко «мольч», которое вы суете куда попало?
— Будет твоя воля, скажу землякам, чтоб «мольч» этого не говорили, — обещал Куркутский. — А порода наша российская. Происходим мы с дальних веков от Дежнева да Анкудинова.
Царегородцев добрался до Хатырки, убедился в правильности донесений о том, что в этих местах хозяйничали американские и японские скупщики пушнины, обирая коряков и чукчей. Японские рыболовы перегораживали реки, закрывая доступ кете в нерестилища.
Положение края предстало ужасным: болезни, нищета, невежество, а у многих было какое-то странное безразличие к жизни.
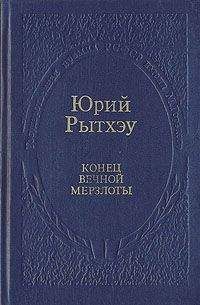


![Юрий Рытхэу - Люди нашего берега [Рассказы]](https://cdn.my-library.info/books/149502/149502.jpg)

