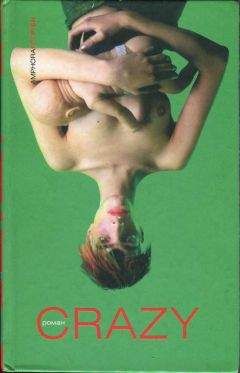Улыбчивый регистратор протянул мне ручку и велел расписаться. Я повиновался. Потом разыскал свободное место рядом со стайкой мальчишек, ожидавших своего друга Кэси. Как стало ясно из их разговоров, Кэси попал сюда с подозрением на перелом запястья. Один парнишка с расцвеченной фингалами физиономией и без двух передних зубов, сказал:
— Этот дурень от горшка два вершка, а думает, что он Шон Палмер[30].
Минуту спустя медсестра назвала мою фамилию, уточнила, кем мне доводится Марни, и попросила связаться с ее родными. Она сказала: Марни в критическом состоянии. Я узнал номер ее родителей через Питтсбургскую справочную. П-у-у-с-е-м-п, единственные Пуусемпы в Питтсбурге. Марни что-то там говорила о музее Уорхола. Я пребывал на грани между всепоглощающей истерикой и жутким хладнокровием. Обе крайности внушали стойкое отвращение. Если я не плакал, то чувствовал себя последней скотиной. Когда же принимался рыдать, то опасался, как бы не вошла сестра и не увидела меня таким — трясущимся и разваленным.
Еще прежде, чем я успел позвонить, кто-то постучал в дверь. Женский голос сообщил, что меня желает видеть главный врач. В следующее мгновение я уже был в коридоре. Я был горд тем, что владыка этой больницы желает что-то сказать или спросить. Я словно был послом из государства Марни…
Врач оказался плотным невысоким человечком с уверенным взглядом. Он назвался Джоном Смитом, и мы пожали друг другу руки. Доктор сказал, что ему пришлось просверлить у Марни в голове два отверстия, дабы уменьшить внутричерепное давление. У нее была серьезная опухоль. Марни могла умереть. Меня начал разбирать истерический смех. Отверстия? Просверлил? Я не мог себе это представить. Что ему Марни — деревяшка, что ли? Не слишком ли примитивно для моего друга? Я тупо смотрел на доктора. Возможно, я сказал ему «спасибо»… Сестра отвела меня обратно, в комнату с телефоном, и две минуты спустя я уже беседовал с миссис Пуусемп. Я сказал, что Марни упала, катаясь на лыжах, и получила серьезные травмы, что врач просверлил две дыры у нее в голове и что ее по воздуху доставят в Рено, поскольку это слишком сложный случай для маленькой горной больницы. Миссис Пуусемп была само спокойствие. Она записала номер моего телефона, повесила трубку, позвонила мужу, а затем перезвонила мне — одновременно с мужем, говорящим по параллельной линии. Он хотел знать, не вытекли ли у Марни мозги. Я сказал: нет. Все на месте. Просто теперь у нее две дырки в черепе.
Пилот вертолета стоял тут же, в вестибюле, и ел гамбургер из Макдоналдса. Он откусил огромный кусок, поманил меня к себе, прожевал, проглотил и сказал, что я не смогу полететь с ним в Рено: вес ограничен. Когда я унюхал его гамбургер, то внезапно понял, как зверски проголодался.
Оказалось, что весь наш разговор слышал парень по имени Шейн Миллер, диетолог здешней больницы. Он подошел и спросил, не отвезти ли меня домой. Миллер показался мне знакомым; я вспомнил, что видел его на обложке журнала для мужчин. Мы направились к его грузовичку.
— Жуткое дело, приятель. Эта Марни, она твоя подружка или как? — У Шейна были большие темные глаза, огромные ресницы и пухлые губы.
— Нет, просто приятельница. Хороший друг. Но не моя девушка.
— Ну и хрен с ним. — Шейн был похож на рослую Софи Лорен, лишенную бюста. — Куда?
— Мотель номер шесть.
— А, шестой. Я там был на вечеринке. У них отличный джакузи. Сто девять градусов, если не ломается нагреватель. — Каждый раз, как Шэйн переключался на очередную скорость, грузовик кренился и болтался, издавая громкий крякающий звук, а нас обоих швыряло на приборную панель. — Я видел, как твоя подруга катается на лыжах. Она зажигает.
— Да уж, я знаю. Только что звонил ее матери.
— Кошмар. — Он завернул за угол. — Хочешь курнуть?
— Да нет, все нормально. — Я заметил на сиденье между нами безголовую куклу Барби. На животе у нее черным маркером было выведено «666».
Шэйнов грузовичок затормозил возле мотеля. Я ринулся в свою комнату, переоделся, сел на жутко скрипучую кровать и сделал два бутерброда с ореховым маслом и колбасой и сандвич с огурчиками. Побросал свои и Марнины вещи в сумки, выписался из мотеля и два бесконечных часа ехал на север. Дэвид Боуи пел по радио — как вестник надежды.
Я миновал маленький городок под названием Ли Вининг. Никаких признаков стоянки. Все закрыто. Одна заправочная станция, одна кафешка, поименованная «Давай пожрем». Еще через пятьдесят миль — Бриджпорт Здесь я однажды бывал, когда ездил в гости к своему другу Заку. Зак провел месяц в местной тюрьме за угон машины, вождение в состоянии опьянения и всякие прочие прегрешения, зафиксированные в полицейском компьютере. Зак написал на своих лыжах слово «заключенный». Он сказал: в тюрьме готовили отличную пиццу.
Больница в Рено была битком набита всяким народом — идиотами с пулевыми ранениями, скинхедами со свастикой на куртках и прочим разным быдлом. И разумеется, копы. В вестибюле работал телевизор, но звук был выключен. Вскорости приехали родители Марни; я прежде встречал их только однажды — в колледже. Миссис Пуусемп была очень похожа на Марни, только пониже ростом. Такие же усыпанные веснушками щеки, такие же серо-голубые глаза, тот же гнусавый голос. Отец напоминал Эрнеста Хемингуэя — высокий, плотный мужчина с широким лицом и белой бородой. Они улыбнулись мне. Мы обнялись. У всех у нас по щекам катились слезы. Мистер Пуусемп сказал, что я ни в коем случае не должен винить себя и заставил пообещать, что я никогда не буду кататься без шлема. Они с женой подошли к коммутатору, назвали себя и прошли к Марни. Я же остался ждать в вестибюле.
Эту ночь я провел в отеле по соседству с больницей. За комнату платили родители Марни. На следующий день они же угостили меня завтраком, обедом и ужином. Все друзья Марни, приехавшие в Рено, удостоились той же чести. Марни находилась в коме, но ее опухоль оставалась стабильной. Она слышала наши голоса и могла отвечать на вопросы, моргая глазами. Марни помнила, что ей двадцать девять лет, а не двадцать восемь и не тридцать. Она часто плакала. Ей было очень больно. К Марни пришла миниатюрная женщина — физиотерапевт. Она показал нам, как надо делать специальные упражнения, сгибая и разгибая Маринины руки и ноги, чтобы у нее не атрофировались мышцы. Я массировал ей ступни и рассказывал о неонацистах в вестибюле. Я поцеловал Марни в нос, и мне показалось, что ее глаза вот-вот откроются. Однажды она зевнула. Мы все по очереди читали ей факсы, приходившие в огромных количествах — письма от разнообразных тетушек, дядюшек, соседей, бывших одноклассников и учителей. Мы принесли CD-плеер и ставили диски с ее любимыми женскими группами — «Эластика», «Веруса Солт» и «Гоугоуз». Мистер Пуусемп вручил мне фотоаппарат и настаивал, чтобы я фотографировал Марни и все ее окружение. Я беспрекословно повиновался — несмотря на то, что это казалось мне странной идеей. Когда палата Марни заполнялась народом, я выходил оттуда и бродил по больнице. В соседней палате лежал человек, пытавшийся покончить жизнь самоубийством. Он убил собственную жену, а затем выстрелил себе в висок. По какой-то прихоти его рука мистическим образом поднялась, словно он чествовал Гитлера. У него была огромная голова, распухшая словно тыква…
Ежедневно мистер Пуусемп запирался у себя в комнате и наговаривал на автоответчик детальный доклад о Марнином состоянии — так что любой желающий мог позвонить и узнать все новости. Он тщательно записывал все, что говорили врачи об инфекциях, внутричерепном давлении, функциях ствола мозга, — и пересказывал это магнитофону. Каждый вечер мистер и миссис Пуусемп — а также все, кто приходил в больницу, — набивались в крошечную комнату, оснащенную столом, одним стулом и телефоном с громкоговорителем — и часами слушали сообщения от разных людей, желавших им всего-всего наилучшего. Я сидел на полу, рассматривал собственные ноги и наблюдал, с каким возбуждением и энтузиазмом люди реагируют на каждый очередной звонок.
Мистер Пуусем был одним из самых крепких и здоровых зрелых людей, которых я встречал в своей жизни. Он легко мог бы оторвать руки человеку вдвое младше себя. И этот самый человек был необычайно эмоционален. Он не стеснялся рыдать в голос, всхлипывая и захлебываясь слезами. В иные моменты он рассказывал истории в лицах или спрашивал меня, что я думаю о его модели лыжного шлема, экспромтом нарисованной на салфетке. Он был преуспевающим предпринимателем с навязчивой идеей решить проблемы всех и вся. Как-то за столиком в больничном кафетерии он принялся расспрашивать меня о моей творческой деятельности и карьере в искусстве. Мог бы я создать шедевр, который очарует весь мир и сделает меня богатым? «Следует начинать с того, то наиболее востребовано в данный момент, — говорил он. — С того, что интересно и нужно людям». Я мямлил и запинался в ответ, нес что-то о вдохновении и интуиции. Я рассказывал ему о моих картинах — роботах-мужчинах, похожих на человечка с рекламы шин «Мишлен», и роботах-женщинах с обтекаемыми формами, изображенных на розовом фоне. Когда я общался с мистером Пуусемпом, мною овладевало чувство сродни благоговейному страху. Я словно беседовал с сенатором. Мистер Пуусемп будто бы излучал внутренний свет. Время от времени он вынимал из кармана маленькую резиновую мышку и пугал ею медсестру, не ожидавшую подвоха. Если сестра не оценивала по достоинству этот мышиный прикол, мистер Пуусемп не допускал ее к дочери. Его чувство юмора было неистощимо. Пожалуй, только оно и не позволяло нам окончательно пасть духом. Как-то я нечаянно прищемил ему палец дверцей машины, не вовремя захлопнув ее. Мистер Пуусемп не издал ни звука — ровным, спокойным голосом он попросил меня открыть дверь.