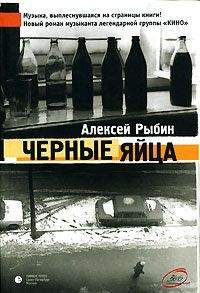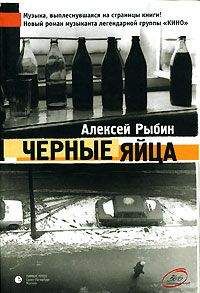Отсидится потом пидор в гостях милых, у людей приятных во всех отношениях, залижет раны душевные и снова на Невский. Робкий тогда был люд, представляющий сексуальные меньшинства, тихий и какой-то нежный. А сейчас что? Расплодились с невиданной скоростью, словно китайцы или индийцы, ходят толпами по проспекту, глазами алчными до плотских утех косят по сторонам. Обнимаются, целуются. И парни все накачанные, с мордами наетыми, жизнерадостные, не боящиеся никого и ничего.
Но к нему, к Огурцову, однако, ни разу не лезли. Было в нем, наверное, что-то ущербное, какая-то патология скрытая. Или запах неправильный он выделял, на который пористые пидорские носы не реагировали. Поэтому и любил он в «Катькином садике» посидеть, носком ботинка по гравию повозить, сигаретку-другую выкурить, молодость вспомнить.
Потом встать, плюнуть в сторону запруженного народом Невского и уйти по переулку Крылова, мимо ОВИРа, в котором свой первый заграничный паспорт получал, – какое волнение было, какой трепет душевный он испытывал, сколько адреналина было в его кровь выброшено смущенным и напрягшимся, готовым к бою организмом, пока битых два часа слушал Огурцов истории, рассказываемые соседями по очереди. Очереди за счастьем. За документом, открывающим путь в огромный и прекрасный мир. Теперь половина его знакомых и друзей живет в этом Огромном и Прекрасном, и сам он там, в этом Прекрасном и Огромном, побывал. Поездил, водки с пивом попил, марихуаны покурил, поглазел на достопримечательности Огромного и Прекрасного. Амбиции не дали только остаться там, далеко, по ту сторону океана.
Европа сразу отпала – слишком близко. Ощутимо близко, а хотелось оторваться, хотелось преграду выстроить между осточертевшим «совком» и собой, забыть навсегда и все пути к возвращению отрезать.
Амбиции, будь они неладны.
А другие ведь живут по сю пору – и ничего. Вполне довольны. Кто поваром на Манхэттене, кто маляром, деньги друг у друга занимают, что, вообще-то, там не принято. Но – довольны.
И Дюк доволен.
В лесу живет, на отшибе, говорит, что никакой у него тут Америки нет в радиусе двадцати миль. И вообще никакой страны – есть только владения сорокапятилетнего хиппи Марка, который наследство получил да и прикупил участок в глухом лесу.
Вокруг фермы Марка поселились его старые друзья по Вудстоку – тоже люди все не бедные. Дети – цветы. Уходили в свое время, в конце шестидесятых, из домов своих обеспеченных родителей, мотались по миру – от Индии до Австралии и от Тибета до России – с заездами в Европу. Многие не выдержали тягот и лишений общинной жизни, вернулись в офисы и университеты, кое-кто помер от передозы или экзотических европейских болезней, а часть – вот такие, как Марк и его товарищи, – дождались благополучной кончины престарелых родичей и оказались владельцами состояний, что сколачивались долгие годы трудолюбивыми, патриотичными и набожными отцами.
Марк и его соседи жили исключительно своим трудом. Так, по крайней мере, считалось. Возились в земле, сажали огороды, пахали, сеяли, били зверя в глухом лесу – от вегетарианства уже давно отошли древние хиппи, баловались ружьишками. Возводили теплицы, цветы сажали, торговали этими цветами через Интернет.
Если ломался у Марка, к примеру, трактор, то он просто снимал со своего наследного счета деньги и через тот же Интернет спокойно покупал новый. Понятно, что трактор доставляли поставщики, – Марку даже в город ездить не приходилось, хотя пара машин у него была – старенький, но мощный джип и форд для деловых поездок, которые, с появлением в его доме хорошего компьютера, случались не часто.
Дюк снимал у Марка домишко о двух этажах, на отшибе участка, расчищенного от леса.
Огурец гостил у старого приятеля, выходил перед сном на двор и часами глазел в бархатную тьму леса. Такой тишины он не слышал никогда и нигде. Ни на подмосковных дачах, ни на Карельском перешейке, ни в Сибири, ни, уж тем более, в Крыму или на Кавказе.
Тишина медленно текла из невидимого леса, заполняла лощинку, в которой размещалась ферма старого хиппи Марка, заполняла с верхом. Огурцов физически чувствовал, что стоит на дне глубокого черного пруда, даже движения его рук в тот момент, когда он решал прикурить очередную сигарету, были замедленны, затруднены, словно он проделывал свои манипуляции под водой.
Ни звука не раздавалось из-за стены деревьев, вплотную подходящих к дому Полянского. Но он уже знал, что тишина эта обманчива. В черном безмолвии бродили олени, еноты, какие-то граундхоги, живущие только в этом полушарии, иногда, рассказывал Полянский, появлялись и медведи. Как это они умудрялись передвигаться совершенно бесшумно, было Огурцову решительно непонятно. Ни веточка не треснет, ни трава не зашуршит. Да еще – медведи. Сказки какие-то. Тут город недалеко – двадцать миль... И вообще – Америка. Цивилизация. Хоть и глухомань, конечно, жуткая, но все-таки.
Когда в словах гостя появлялась ирония, Полянский спрашивал его, мол, как ты думаешь, зачем мне собачка? Ну как это, пожимал плечами Огурцов, – дом охранять.
А от кого здесь мне дом охранять, снова задавал вопрос Полянский. Здесь частная территория. Сюда никто не сунется. Опасно для жизни. Марк и выстрелить может, несмотря на то, что хиппи. У него оружия – полон дом. А собачка у меня на пороге ночами спит, если медведя учует – сразу вой подымет. Или там – лай.
«А это видел? – спрашивал Полянский и показывал новенький винчестер. – Что ты думаешь, я карабин боевой купил, чтобы по банкам консервным стрелять? Мало ли – мохнатый забредет, так выбора не будет. Либо я его шугану, либо он меня. Впрочем, мы с Марком, да с его арсеналом, да с этой игрушкой, – он взвешивал винчестер в руках, – как-нибудь отобъемся. Медведь – это ведь не КГБ, против которого и вправду ни карабин, ни лом, ни топор, что бы там Солженицын ни писал – никакое оружие не работает. Не получается. А медведь – это для меня после «совка» – так, легкое приключение».
Вечерами, когда было еще не совсем темно, Огурцов, сидя на завалинке, наблюдал, как на ближайшие деревья карабкались, срываясь иногда на нижние ветки, тяжело взмахивая крыльями и неуклюже лавируя пышными длинными хвостами, павлины.
Это было настоящим откровением – узнать, что павлины ночуют на деревьях. Застывают на такой высоте, где ветви еще могут, хоть и опасно прогнувшись, удержать вес их массивных тушек, и висят там всю ночь неподвижными черными сгустками.
Павлинов в приступе сентиментальности купил Марк. Когда Полянский спросил его: зачем? – Марк ответил: чтобы больше было похоже на рай.
За день до отъезда на родину Огурцов и Полянский гуляли по этому раю, остановились возле водопада – ровная стальная полоска лесной речки резко обламывалась под прямым углом и, дробясь на бесчисленное множество осколков, летела вниз, на огромные серые камни, взлетала блестящим бисером брызг и продолжала свой путь уже в другом качестве – бурля и пенясь, шипя, извиваясь, стремилась вниз, туда, где в низине развалился лениво небольшой, уютный и стандартный, как дешевый диван, обыкновенный американский городок.
Огурцов достал из кармана паспорт, проверил, на месте ли обратный билет, и заметил усмешку на лице Полянского.
– Ты чего? – спросил он.
– Холишь и лелеешь? – Улыбка на лице Полянского стала шире. – Краснокожую свою паспортину, говорю, холишь и лелеешь?
– Да нет, просто проверил...
– А слабо сейчас ее порвать и в речку?
– То есть? – не понял Огурцов.
– То есть взять и жизнь свою изменить. Причем, как мне кажется, в лучшую сторону.
– Нелегалом, что ли, тут остаться?
– Человеком. Свободным человеком. Начать новую жизнь. Вместо одной жизни прожить две. Может быть, вторая и будет трудной, хуевой... Несчастной. Хотя, здесь это вряд ли, рай ведь. Павлины... Но, в любом случае, у тебя их будет не одна, как у большинства людей, а две. А? Что скажешь?
Огурцов молчал. Он знал, что и Полянский пять лет жил в Штатах на нелегальном положении. Знал он и то, что все в руках человека. Знал также, что если чего-то сильно хочешь, то обязательно получишь желаемое. Хоть грин-карту, хоть домик в деревне. Хоть «Мерседес» или еще что. Нужно только очень хотеть.
– Нет, Леша. Я поеду к себе. У меня же там работа, и вообще, не так уж там страшно, как прежде. Жить можно.
– Ну-ну, – хмыкнул Полянский. – Приезжай к нам еще. Мы гостям всегда рады. – Он плюнул в водопад. – Пошли обедать, – сказал тот, кого в Ленинграде называли Дюком, странно заикнувшись, словно слезы проглотил. И, быстро повернувшись к Огурцову спиной, зашагал по густой траве в сторону дома.
* * *
Он посидел на лавочке в «Катькином саду». Выкурил две сигареты. В последнее время много стал курить. Две пачки в день – норма.
А Полянский, вот, в Америке не курит. И за те десять лет, что они не виделись, почти не изменился. Потолстел, порозовел, разве что. И, что удивительно, ростом выше стал. Не вырос, конечно, в наши годы не растут. Позвоночник распрямился. Перестал товарищ к земле голову клонить. Гордо на мир смотрит из своего леса.