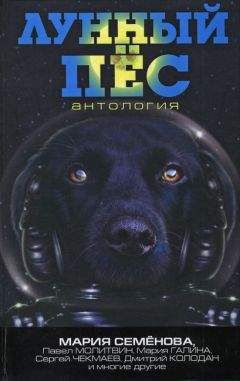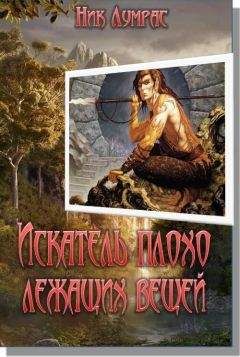С другой стороны, отсутствие генерального плана дает одно неоспоримое преимущество: если ты не планируешь ничего грандиозного, ты по определению не сможешь разочароваться, когда твои планы не воплотятся в жизнь – поскольку их не было вовсе, – хотя я сомневаюсь, что мои “проницательные” современники в состоянии это понять.
Да, я сам никогда не стремился к чему-то конкретному, но я все же тешил себя надеждой, что у меня есть какие-то скрытые таланты, и когда-нибудь они непременно проявятся, и люди оценят мою гениальность, или что годам к двадцати пяти я обязательно разбогатею – так или иначе.
Но большинство из нас, как сие ни прискорбно, не способны практически ни на что. Да, я согласен, многие бедняки не могут выбраться из нищеты, потому что им не представился благоприятный случай. Но ведь есть и немало таких, которые даже и не пытались. В силу собственной слабости и беспомощности. Я вдруг понимаю, что папа с дочкой меня раздражают, потому что они – это я, только в гипертрофированном варианте. Всю жизнь я плыл по течению и ходил по проторенным тропам, не задаваясь вопросом, для чего мне это надо и надо ли вообще.
Что я здесь делаю? Внутри закипает злость. Меня раздражает, что я застрял в этой дурацкой цветочной лавке. Стою, как дурак, жду, когда мне завернут букет, трачу свое драгоценное время, которое можно было бы употребить с большей пользой. Например, на работу над собственным обожествлением. А вместо этого я торчу в цветочной лавке, трачу последние деньги на самые дешевые гвоздики для женщины, с которой едва знаком, после того, как устроил свидание с запредельно дорогой элитной проституткой для мужчины, с которым едва знаком. И в довершении ко всем радостям у меня обострился хронический недуг, о котором не то чтобы стыдно, но как-то не принято рассказывать посторонним. Ощущение пустоты и пронзительной бесполезности стоит комом в горле, так что мне трудно дышать.
– Она просто хотела тебе показать, – говорит гордый отец.
У меня еще остается возможность что-то исправить. Я сам в это не верю, и тем не менее… В каждом из нас – целые залежи зла, которое только и ждет подходящего случая, чтобы проявиться. Если мне скажут: “Ты будешь счастливым, но при условии, что все эти люди, которые находятся вместе с тобой в магазине, умрут прямо сейчас”, – я, разумеется, не соглашусь. Но лишь потому, что мне будет не слишком приятно вспоминать о том, какой ценой мне досталось это самое счастье. То есть, на самом деле я все равно не смогу быть счастливым. Потому что я все же надеюсь в глубине души, что счастья можно добиться, не прибегая к таким жутким методам.
Но если мне скажут: “Ты будешь мучиться страшными болями до тех пор, пока не умрут эти трое, то есть, пока они живы, ты будешь страдать”, – сколько я продержусь? Десять секунд? Десять часов? Десять дней?
– Спасибо, что вы нашли время зайти, – улыбается продавщица, которая так до сих пор и не завернула мои цветы. – Букет правда очень хороший. – В ее голосе нет и намека на неискренность. При том, что она тут не просто торчит за прилавком, а занимается делом, ведет торговлю, и это здорово, что она отвлекается от своих непосредственных обязанностей, что бы сказать доброе слово людям, от которых нет никакой пользы
с коммерческой точки зрения. У нее доброе сердце, и именно поэтому она так и будет всю жизнь работать в крошечной лавке и никогда не откроет свой собственный цветочный салон.
Лишь на обратном пути до меня доходит, что надо было сначала проверить, будет ли Гулин дома сегодня вечером. Она бывает у Сиксто далеко не каждый день. Боюсь, что цветы пропадут, но я должен был их купить, пока порыв не иссяк. Как выясняется, Гулин сегодня не будет.
Я усердно молюсь. За всех нас. На всякий случай.
В работе духовного пастыря меня больше всего утомляет, что прихожане ждут от тебя длинных пространных речей и неизменной готовности поддерживать душеспасительную беседу. В этом смысле богам и святым мудрецам значительно проще: им даже положено монументально безмолвствовать. А пастырь, по мнению паствы, должен без умолку говорить и жечь глаголом сердца людей. Также по окончании службы он должен сердечно прощаться лично с каждым из прихожан. И, разумеется, помнить, как всех зовут, чем они занимаются и где живут.
– Деяния святых Апостолов, глава 11, стих 14, – говорит Бен.
Это так раздражает, когда все кому не лень цитируют Святое Писание! Бен ждет ответа. Я молчу и улыбаюсь. Делаю вид, будто знаю, что он имеет в виду.
Поначалу я решил, что, как главе Церкви, мне нужно хотя бы пролистать Библию – ну, чтобы быть в курсе, – а потом рассудил, что не стоит тратить на это время, поскольку среди прихожан непременно найдутся въедливые педанты типа того же Бена, которые изучили Святое Писание вдоль и поперек, и мне в этом смысле за ними уже не угнаться. Я выучил несколько универсальных цитат, которые можно использовать в качестве глубокомысленного ответа на любой вопрос от “Хотите попробовать редиску?” до “Существует ли ад?”. Но эти цитаты я приберегаю на случаи крайней духовно-наставнической необходимости.
– Я тоже священнослужитель, – сообщает мне Бен с явным намеком. Как я понимаю, его раздражает, что такой откровенный бездельник, как я, стоит во главе целой церкви (пусть даже такой захудалой), но при этом он жаждет общения с братом по духу – мы с ним оба посредники между божественным небом и грешной землей.
Он жалуется на некую Джорджию, хорошенькую прихожан-ку, которая появляется в церкви раз в год по обещанию, а когда появляется, то бесстыдно сверкает сосками размером с чайные блюдца, поскольку питает пристрастие к прозрачным майкам. Я много думал над этим вопросом, и он до сих пор остается для меня загадкой: женщины действительно не понимают, что прозрачные майки и вправду прозрачные, или им просто нравится дразнить мужиков, поощряя их к онанизму? Я сочувственно киваю, хотя лично мне кажется, что у нас в церкви наоборот не хватает прозрачных маек. В смысле, я был бы не против, если бы их было больше. Мне так и хочется посоветовать Бену, чтобы он отправлялся домой и как следует подрочил. И тогда ему наверняка станет легче. Самообслуживание – это поистине дар Божий. Может быть, самая великая из всех Божьих милостей.
Но, разумеется, я молчу.
Когда мы прощаемся с миссис Барродейл, ее дочь заявляет:
– Бог такой скучный.
Миссис Барродейл смущается и краснеет. И не потому, что ее дочка сказала неправду. А как раз потому, что девочка права. Религия в основном штука скучная. Как и вся наша жизнь. Пока не становится занимательной и интересной. И тебе хочется лишь одного: чтобы она вновь поскучнела – и как можно скорее.
Вместо того, чтобы болтать с прихожанами, мне бы надо заняться делом. Сотворить пару-тройку чудес. Я уже закрываю церковь, и тут ко мне подлетает Герт.
– Это чудо, – шепчет он, запыхавшись, и сует мне под нос какую-то кружку.
– Где?
– Я ехал по улице, пил кофе… я иногда позволяю себе выпить кофе прямо за рулем… и вдруг этому придурку на грузовике взбрело в голову перестроиться на мою полосу. А я ехал медленно, потому что пил кофе. Но если бы я ехал хоть чуть быстрее…
Его трясет мелкой дрожью.
– Так что случилось?
– Почти каждое утро я прохожу мимо бездомного парня, и каждый раз думаю, что надо бы купить ему что-нибудь покушать. Сегодня я тоже спешил, как всегда, но сказал себе: “Слушай, ты все время спешишь. Ты каждый раз говоришь себе, что обязательно купишь ему сандвич с сыром, но до дела так и не доходит”. И тогда я решил, что сегодня я уж точно куплю ему сандвич. Я подошел к нему и спросил: “Хочешь есть?” А он
сказал: “Нет, приятель, спасибо. Но я хочу кофе. Латте”. Ладно, я покупаю ему латте, раз он хочет латте. Мне уже надо ехать, потому что я страшно опаздываю. Но я покупаю латте и себе. Ну, как-то вдруг захотелось. Сажусь в машину, переливаю латте в свою кружку, потому что я ненавижу эти пластиковые стаканчики из автоматов. Я не люблю безответственность. Я еду медленно и осторожно, потому что пью кофе за рулем. Я, конечно, слежу за дорогой, но внимание-то все равно рассеяно. А потом тот придурок на грузовике резко решил перестроиться на мою полосу. И смел две машины. Одна из них загорелась. Я жму на тормоз, останавливаются буквально в нескольких дюймах от горящей машины. Кофе, конечно, выплескивается. И на кружке получается лицо. Ну, изображение. И я понимаю, что это чудо. Меня спас кофе!
Он показывает мне кружку. Выплеснувшаяся пенка застыла изображением лица бородатого мужчины с длинными волосами. Причем это не просто подтеки и пятна, которые складываются в приблизительную картинку, если смотреть на них под определенным углом с определенного расстояния – это именно изображение Христа. Как будто его нарисовали специально. Кстати, вот интересный вопрос: почему Иисуса Христа традиционно изображают высоким, худым, длинноволосым красавцем. Почему не лысым пухленьким коротышкой?