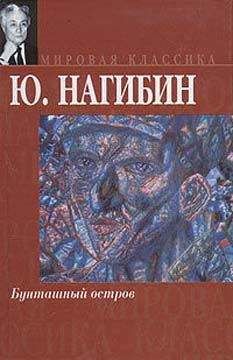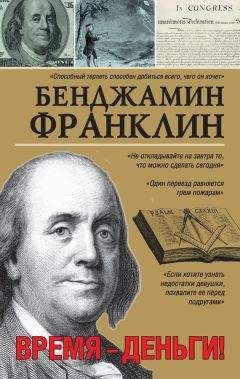Она от души рассмеялась:
– Это был бальзам для волос. Очень приятный по текстуре, хотя и дешевый.
– Извини, что вмешался в твою частную жизнь, не думай, что меня это задело, что мне было неприятно…
– Почему тебе должно быть неприятно?
– Честно говоря, я был ошарашен. И оскорблен.
– Мне запрещено мастурбировать? Ты должен был давно сказать мне об этом.
– Я неточно выразился. Оскорблен не совсем верное слово. Мне просто было обидно.
– Обидно? Джексон, у меня очень напряженная и утомительная работа в Ай-би-эм, я имею право иногда выпустить пар.
– Ты не понимаешь. Все дело в том, что ты была так возбуждена. Ты что-то делала там, внизу двумя руками, наслаждалась и смотрела на себя, а это – значит, это был бальзам – он был везде. Ты задыхалась и ругала себя последними словами. Проклятье!
– Получается, я произвела на тебя впечатление. Так почему же ты не присоединился?
– Я был бы лишним. А ты до сих пор не хочешь меня понять. Ты – ты получала такое удовольствие, сама, большее, чем со мной. – Джексон опустил голову. Вот. Он это сказал.
Кэрол коснулась его руки с той нежностью, по которой он очень скучал.
– Значит, ты меня видел. Понимаешь, это немножко другое. Может быть, без тебя я чувствую себя чуть раскованнее. С партнером намного труднее потерять самоконтроль, даже если ты его любишь, даже если ты с ним полностью расслабляешься. Я все же не понимаю, какая связь между тем, что ты увидел, и твоим решением сделать эту глупую операцию.
Ему всегда становилось не по себе, когда она говорила с ним так просто и откровенно. Поскольку у него и самого был определенный ритуал – да, именно был – и ему приходилось признать, что ему было бы крайне неловко оказаться в подобной ситуации, когда кто-то наблюдает за «сеансом», когда ты не способен собой управлять. Одно воспоминание об этом возбуждало. (Возможно, он должен радоваться, что его член хоть как-то реагирует, но это слишком болезненно; рубцы перетягивали его плоть посредине, и он замирал на полпути вверх.) Воспоминание о Кэрол, ласкающей себя руками, перемазанными вязким лосьоном, и разглядывающей себя в зеркало, заводило его, как никогда. Господи, ни за что не подумаешь, глядя на эту женщину, такую сдержанную, такую… Возможно, посторонним она казалась слишком зажатой. Ну, он бы не решился повторить слова, услышанные в тот день, – ее комментарии смутили бы их обоих, но именно они заставили его плоть отреагировать бурно – да она просто дикая кошка! Тогда днем он почувствовал себя обманутым, оказывается, он столько лет жил рядом со страстной женщиной с роскошной грудью, способной сводить с ума. Он вспомнил, как она извивалась от неудержимого желания, погружая собственную руку все глубже в лоно, а на лице появлялось незнакомое ему выражение наслаждения и восторга. В то время как он годами довольствовался сдержанным сексом с благопристойной дамой, мягкой домашней кошечкой.
– Я хотел, чтобы тебе было так же хорошо со мной, – произнес наконец Джексон. – Я хотел, чтобы ты могла испытывать то же удовольствие со мной, как и наедине с собой. До тех пор пока не застал тебя, я не осознавал, что тебе чего-то не хватает.
– Разве ты не видел, что мне нравится заниматься с тобой сексом? У нас все было прекрасно. А если это не так, значит, у меня еще больше поводов злиться.
– Видишь? «Мне нравится», и все было «прекрасно». Так говорят об удавшемся пикнике. Я не хочу, чтобы тебе «нравилось». Я хочу, чтобы это был безрассудный, сумасшедший секс.
– Тогда я тебя поздравляю. Я уже схожу с ума. Страдаю от безрассудства и обиды. Ты бы мог поговорить со мной об этом, вместо того чтобы превращать свое достоинство в запеченную сардельку. Бог мой, если бы ты хотел сделать секс более изобретательным, то я бы тебе сказала, что купила два пузырька бальзама по цене одного на распродаже в Си-би-эс.
Джексон почувствовал, что жена немного смягчилась, и присел рядом. Несмотря на жаркое лето, она стала надевать на ночь сорочку. Однако дверь была заперта, и рубашку вполне можно скинуть. Он положил руку ей на бедро. Она посмотрела на его руку, затем в глаза; на лице отразилось сомнение, но улыбка показалась ему вполне доброжелательной. Прошло еще недостаточно времени после второй пластической операции – рубцы оставались воспаленными, – но он, как истосковавшийся по работе специалист, уволенный во время экономического кризиса, просто обязан был воспользоваться первой попавшейся возможностью вернуться к прежней жизни. Она не ответила на его поцелуй, но и не оттолкнула. Да, он опять вспомнил о «Обезьяньей лапке», но ничего не могло быть больнее воздержания, длившегося многие месяцы.
Джексон просунул руку под тонкую ткань, но им еще очень далеко до такого наслаждения, которое можно испытать, используя бальзам. Он был внимателен и нежен, молчаливо спрашивая разрешения идти дальше, словно она была девственницей, с которой следовало быть терпеливым и осторожным, а не его жена и мать его детей. Наконец, тонкая хлопковая преграда исчезла – боже, ей запрещено скрывать свое тело, – и его рука утонула в расщелине, мягкой, словно ванильное мороженое. Кэрол не помогала ему, но и не пыталась остановить. Осталось сделать последний шаг, снять эти чертовы трусы, отбросить последнюю преграду, приводившую его в ужас; надо было выключить свет со стороны Кэрол, тогда у него может получиться. В спешке он резинкой задел по самому больному месту; он видел, с каким отвращением она смотрит, считает невозможным отвернуться и смотрит, но все же отворачивается. Эрекция была такой, какой бывала в последнее время, а значит, половинчатой, сейчас не самое подходящее время для таких мыслей, но он был вынужден признаться себе, что после всех этих растяжений, разрезаний, раздроблений изуродованных комочков, – сделавших его член похожим на недоеденную фаршированную куриную шею, выброшенную в мусорное ведро, – его оружие стало еще меньше, чем было.
Он осторожно лег сверху, лицо Кэрол исказилось, и выражение его напомнило то, с которым она была тогда в спальне, перемазанная бальзамом для волос, но в нем появилось и нечто новое, видимо, с такой гримасой пациенты соглашаются на колоноскопию. Помощи от Кэрол не последовало, поэтому, приподнявшись на одной руке, он постарался принять позу, в которой будет удобнее пристроить свой полуживой отросток, пожалев при этом, что не существует специальных приспособлений для доставки пенисов-инвалидов в вагину. Сделав несколько движений вперед, он почувствовал, что его инвалид сгибается. Надо попробовать еще раз, поддерживая пальцем снизу, создавая своеобразную подпорку. В этот момент он заметил, что Кэрол, совершив едва заметный маневр, вывернулась и встала с кровати.
– Я не могу. – Ее трясло, несмотря на то что в комнате было тепло. Кэрол потянулась к рубашке, лежащей на ее подушке. – Извини. Я старалась, но не могу. Даже если у тебя и получится вставить его, я не могу. Он выглядит омерзительно.
Кэрол была не из тех людей, что любят работать на публику и питают страсть к преувеличениям, но в следующее мгновение она, зажав рот рукой, бросилась в ванную. Она заперла за собой дверь и долго не выходила.
– Да, мистер Погачник, дело в том…
– Ты меня слышал? Не твое время. Я и так слишком многое позволяю, и все ради твоей жены, Накер. Но у меня здесь не хоспис. Бизнес есть бизнес.
Джексон выглянул из-за перегородки. Погачник был коротконогим мужчиной, с короткой шеей и короткими же пальцами-сосисками, при этом весь покрыт веснушками. Сегодня он был в рубашке в красную и белую полоску, широченных бермудах и кургузой бейсболке, которая на его голове была больше похожа на тюбетейку, ему только не хватало большого леденца для завершения образа малыша-переростка. Он был единственным человеком в офисе, которому с его тучным телом и в легкой одежде летом было жарко; Шеп же в середине августа был в жилете, он даже научился печатать в перчатках. Погачник, видимо, решил испытать механизм на прочность, и с начала июня неизменно понижал температурный режим кондиционера: Шеп пришел на работу в шерстяном шарфе; Погачник понизил температуру еще на два градуса; Шеп явился в наушниках.
– Дело в том, что я могу позвонить в страховую компанию только в рабочее время, – объяснял Шеп спокойным ровным голосом, так похожим на манеру говорить Кэрол. – Пока я набираю номер, я продолжаю отвечать на звонки в «Рэнди Хэнди»…
– Как ты назвал мою компанию?
– Я хотел сказать, «Хэнди Рэнди». Конечно. Просто оговорился.
– Ходишь по лезвию ножа, Накер. Полагаешь, в сложившейся ситуации разумно путать единственного работодателя со словом «дрочить»?
– Нет, мистер Погачник. Не знаю, как это слетело с языка. Вы заставили меня нервничать, сэр. Все из-за вашего… недовольства.
Черт побери! Ведет себя словно салага, в первый раз оказавшийся на плацу перед сержантом, в те времена, когда волонтеры еще не раздавали всем подряд печенье «Орео». Джексон был невероятно зол, причем, может, и несправедливо, но зол именно на Шепа. Неожиданно происходящее за перегородкой показалось предательством лично его. Он готов был поспорить, что «Рэнди Хэнди» не было произнесено намеренно, как это должно было быть, а вырвалось у Шепа случайно. Хорошо еще, что давнее правило называть шефа в офисе «мистер Погачник» введено не Шепом в угоду начальнику. Со времен, когда всех, от директора ресторана до премьер-министра, называли по имени, столь официальное обращение приобрело иронический подтекст; однако этот рыжеволосый толстяк был слишком глуп, чтобы заметить, с каким сарказмом произносилось это самое «мистер Погачник».