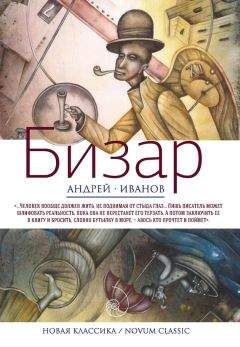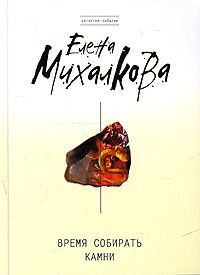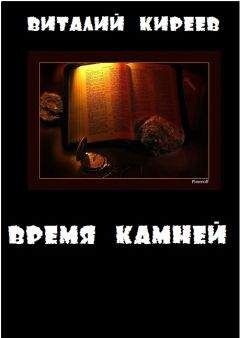– Да, – сказал я, – вот тебе плитка… а мне надо кое с кем еще побазарить… Постой! – опомнился я, стянул кофту. – Отлепи гаш со спины! Спрячь!
Мистер Винтерскоу мял руки и жевал губы, показывал какие-то статьи из газеты, просил назвать имена, дать телефонные номера; спросил, с кем и как связаться, потребовал, чтоб я все с самого начала рассказал, как можно короче, самое главное, суть; я рассказал; он сказал: «Так, так, так… ну и дела… мда…», попросил, чтоб я все это написал и послал ему, дал мне конверт с маркой и написанным на конверте адресом. Сказал, что сделает все возможное. Он записался к адвокату. Мне было стыдно. Никогда прежде в жизни мне не было так совестно, как тогда. Мне очень сильно захотелось умереть; стать мучеником; умереть ради него, всех, чтоб мученической смертью искупить этот позор. Иначе было не отмыться.
Старик ушел, волоча свои боты. Ему вслед охранники смотрели и перемигивались. Меня пронзила жалость к нему, к себе, ко всем нам. Он был так же бессилен что-либо изменить в моем положении, как и в своем замке. Все было бессмысленно. Он только напрасно терял время.
Ночью покурили в окно гашиш. Спали как убитые. Утром охранники были довольные.
* * *Вместе с шоколадом Дангуоле привезла мне десять конвертов с уже наклеенными марками. Надо было все подробно написать…
Я лежал и думал о ней. Как же мне было писать ей о том, что со мной было?
«В деталях», – говорила она.
Лучше ей сразу меня забыть… не зная деталей. Она ненавидела всю эту грязь. Простая девчонка – дитя асфальта и поющей революции. Она ненавидела шлюх из Белоруссии и Украины, которые толклись на железнодорожном вокзале в Вильнюсе. Она ненавидела тяжелые наркотики. Она курила траву и ела грибы. У нее был парень, байкер. Она заставляла его мыться и стричь на ногах ногти, которыми он царапал в постели ей ноги. Однажды она узнала, что он ей неверен, и сама изменила ему. Но ей было противно. Она бросила его, как только узнала, что он связался с бандитами.
Дангуоле хотела знать все про меня, все, что со мной случилось. Все про моих родителей. Кто они, где они, и вообще, все… Все!
Сел писать…
Писал всю ночь… У Тяпы бумаги было запасено на год вперед. Он готовился завалить Красный Крест жалобами, потопить его в стонах. Я исписал половину. Ограничился основными пунктами: бордель – отмывка денег – казино – кокс – подстава – больница – поимка – КПЗ – переговоры – игра в прятки – взятка и т. д.
«Обязательно ставь даты, – говорила она, – чтобы было ясно, когда что произошло! Для адвоката! Адвокату необходимо будет составить официальный документ, апелляцию…»
Я ставил даты очень приблизительно… Выходило совсем сухо. Очень канцелярно. Такого-то числа устроились работать в бордель… такого-то числа со счета были сняты деньги… Выглядело ужасно – черствый аферист, да и только! И пусть! Все к черту! Никаких объяснений! Что было, то было. Еще я буду оправдываться… Перед кем? Плевать на всех! Теперь-то точно плевать! Все. Хватит. Точка. Разбираться нет сил. Мысль сжалась, как от судороги; она стала такой же убогой, как Тяпина культя. Какая разница, все равно разгребать мне, а не кому-то. Так какая разница, что будут о том думать другие?
К утру я был синий, насквозь пропитанный кислым от чифиря рассветом. В конце добавил, что нам лучше расстаться, потому что… сама видишь… Там были аргументы, всякие слова… уже не помню… бормотание… самое главное, что я искренне написал, что ей лучше обо мне забыть… или хотя бы взвесить еще раз: нужен ли ей такой невесть кто, – дело свое я считал решенным, надежды не было никакой, выбираться из этой мышеловки не видел смысла. Если бежать, рассуждал я, куда?., где прятаться?., опять таиться годами нелегально? Зачем ей это? Кажется, так и написал. Не помню; просто хотел как-то все это оборвать, вообще все обрезать, раз и навсегда.
Когда Тяпа проснулся перекурить, он схватился за голову:
– Ты по весу не сможешь в одном конверте послать!
– У меня десять конвертов, – ответил я, – на каждом марка, по ним и рассую, подруга позаботилась, по три листика в каждый…
Он примолк, закурил.
– О чем писал-то, если не секрет?..
– Теперь не секрет. О деле. Рассказал ей, как все было…
– Ой, напрасно ты это. Бабам нельзя знать правды. Даже той правды, что была там когда-то. Они ничего не должны знать. Не ихнего это ума дело. Ой, напрасно… – причитал Тяпа, вздыхал, качал головой и приговаривал: – Нет, твое дело. Конечно, твоя голова – твое дело, тебе решать. Просто я из своего опыту говорю: бабам ничего говорить о своих делах нельзя. Им не надо знать этого. Это их портит. Они начинают думать, как бы они поступили, и тут забывают о том, что они – бабы, они себя ставить на наше место не могут, но они делают это, начинают просчитывать по-своему, по-бабьи, как бы они поступили, будь мужиками в штанах, и думают они так же, как в сериалах, они наши поступки про себя продумывают, как кино, а потом обязательно приходят к одному выводу, все бабы приходят в конце концов к одному выводу: они умнее нас, мол, все мужики – дураки! Ну и всё!
– Всё так всё. Я за юбку не держусь. Я уже ей сказал, что, может, не увидимся больше…
– А, ну тогда другое дело… Просто, может, пока мы тут сидим, она бы прислала нам посылочку?
Я на него так посмотрел, что он сразу заткнулся. Погулял по коридору. Неожиданно почувствовал, какой я вонючий. Пока писал, сто потов вышло. Воз души переворошил. Взял полотенце, пошел. Голый, на кафельных плитках я внезапно понял, что от намерения полоснуть себе по венам не отступлюсь, даже если все сложится волшебно, я все равно это проделаю. Я гладил свое влажное тощее тело, трогал вены, понимая, что отказаться от задуманного я уже не в силах. Захотелось это сделать немедленно. Так захотелось, аж внутри зазудело.
Наконец известили, что мне отказано в убежище. Довольно мало времени им потребовалось для принятия решения. Даже смешно было допускать, что какая-то комиссия там рассмотрела что-то. Да за это время и прочесть бы никто ничего из моего дела не успел!
Меня вызвали в кабинет. Там за столом сидел мент, в компьютере рылся. Жирный, старый, щетинистый, носатый, бровастый. Как из трактора вынутый. Но воротничок был острый, наглаженный, порезаться было можно! Складки подпирал! Рядом на стульчике сидела переводчица (с сербскохорватского, но никак не русского). Маленькая, тощенькая, черненькая, замызганная, затурканная, ножка к ножке, ручки сложила, сумочка на коленках, будто не меня, а ее вот-вот должны были депортировать! Такого вида скорбного. И платочек держала наготове, бедненькая… Он зачитывал по бумажке, она переводила, несла настоящий бред: «…о прошении на убещище по беженству… отказать по не удовлетворетным причине… требований… власти могут и хочут рассматривать и желать помочь решать проблему на месте жительства… нет оснований по прощению о беженстве… сотрудничал и помогал мафия в обманывании стиральных денег… власти республика Эстония будят рассматривать и помогать… рещать этот проблема…»
– Меня сразу на самолет, прямо сейчас? – спросил я, прерывая спектакль.
– Сейчас пятница, – сказал лениво полицейский, с трудом двигая своими щеками. – Конец дня. Сам понимаешь. В субботу никто не полетит… В понедельник теперь уж. – И наклонил голову, посмотрел на меня и с сочувствием и усталостью (мол, войдите в наше положение тоже: кто ж по пятницам такими вещами занимается?).
– В понедельник так в понедельник, – расписался и пошел.
– Тяпа, у меня депорт. В понедельник отправляют! – Как! – Грузят как мебель и адиос! Буду вскрываться. – Да ты что! Хотя твое дело… Можно было бы его съесть… – Кого? – Лезвие. У нас на зоне хавал один – шамк и на больничку. Говорил, что переварится. – Тут таких лезвий нет. Тут жилетты, а их не пожуешь. – Это точно. Ну, тогда ложку или якорек… – Ложка, якорек… Дело хлопотное… Время не терпит. Вскрываться надо! – Как скажешь… – Нечего ждать, надо действовать. Ночью пойду в душ, вскроюсь. Ты пойдешь через полчаса, увидишь меня, подымешь крик… – Ясно… Покурим? – Давай. – Сверни мне тоже, а то все твои крутки я скурил, пока тебя там водили… – Ага, сверну побольше, а ты чифирь поставь… чтобы кровь разогнать… – Во-во, чтоб фонтаном пошла! Может, в шахматишки перекинемся? – Ну, расставляй… Время скоротать… – А что, тебе так и сказали? Депорт? – Да, билет на самолет с серебристым крылом… Сюда… – Ага… В понедельник? – Да… Сюда… – Может, в воскресенье тогда уж? – Нет, я не хочу ждать. – Ну да, как скажешь… – Вот сюда. – А что сегодня сразу не отправили? Рейса нету? – Не знаю. Сказали, что по пятницам-субботам менты не летают. Всем лень. – Так-так-так… Сюда. А менты что, тоже летят? – С кем летят, а с кем не летят… Вот так. – Хм. Ты у нас особняк, с тобой и менты полетят… – Не полетят…
* * *
Кнуллерёд, настоящий психиатрический приемный покой, придуманный каким-то изощренным садистом. Общий холл, куда выводили больных, был круглым: стены не имели углов, они плавно закруглялись. Потолок был стеклянный, пирамидальной формы. Проходной двор. Каждый день кого-нибудь привозили, в полном дерьме, вносили как макет, с топотом и гомоном; по ночам вваливались; спать было невозможно даже под капельницей; постоянно мелькали ноги, руки, порхали бумаги… ругань, сутолока… идиотские вопросы… Ко мне была приставлена санитарка, у нее было очень запуганное лицо, она сидела на стульчике в моей палате, и, несмотря на то что я был прикован ремнями к койке, она была в ужасе, сжавшись сидела в самом дальнем углу, одной ногой наружу, и тряслась… За мной следили днем и ночью, кололи всякую дрянь… Я хотел написать, чтоб прекратили, но у меня из рук вырвали карандаш и записали, что я пытался себе выколоть глаз. Идиоты… Так как спроектирована больница была извращенцем, я никогда не мог толком ничего рассмотреть из своей палаты; если меня привязывали к койке (они решили и капельницу с лекарством прицепить!), в поле моего зрения попадали только какие-то фрагменты: грязная одежда, которую волокли по полу, мешки с экскрементами, чьи-нибудь ноги на носилках или блюющие рты.