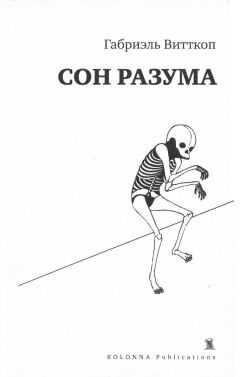Однажды Габриэль приснилось, будто она убивает девушку. Самое сильное ощущение в ее жизни. Самым сильным ощущением всей ее жизни станет незабываемое блаженство этого сна. На плитах сада с подсолнухами она бутылочным осколком перерезает горло белокурой девушке, чье лицо различает с трудом. Возможно даже, она не знает ее, но чувствует липкое тепло крови на ладонях, слышит скрежет осколка, скользящего по граниту, всем телом ощущает огромное счастье самой древней и самой жестокой трансгрессии.
Габриэль останавливается так же внезапно, как начала, склоняясь над заплаканным лицом, — внимательная, но безучастная; ее короткие волосы слегка растрепались. Она чувствует, как ее притягивают нежные руки, слышит имя: ее, его, свое — единое созвучие, старинная музыка.
Оранжевый цвет становится пурпурным, когда раздается телефонный звонок. Габриэль безуспешно пытался дозвониться до Одетты и просит не ждать его к ужину. Он идет гулять и не знает, когда вернется, Габриэль кладет трубку.
— Он не знает, вернется ли сегодня вечером. Идет гулять. Как это часто бывает. Понимаешь…
Из-за молчания Одетты тишина сгущается еще сильнее. Тишина комнаты умершего — нет, ведь там слышно потрескивание свечей, иногда плач и жужжание какой-нибудь мухи, ищущей пропитание; скорее уж, тишина морга, антисептическая и совершенная на человеческий слух, но это совершенство тяжело. Кто-то говорит: «Расскажи».
Ведь это слово и впрямь произнесено — властное, двусмысленное и вместе с тем однозначное.
Вначале — оранжевая пустота. Колебание, столь же преходящее, как и тишина. Наконец, какой-то пузырь лопается словесным снегом. Вопросы осыпаются и осыпаются сверху под порывом ветра, и ответы следуют по пятам. Сквозь это падение виднеется человек наивный и голый, раскрытый без его ведома, с выданными тайнами, вожделеющими речами, сладострастными вздохами, со своей силой и слабостью.
Одетта настаивает на слабости. Она анализирует — плоско, сообразно лексикону летящей чайки, под стать себе самой: Одетте с низковатыми ягодицами. Она идет путем сравнения, оскорбительно — служанка, что предчувствует разжалование. Сколько стрел попало в Габриэль — светского святого Себастьяна! Она нередко осознает собственные недостатки, а недостатки Габриэля могут быть только ее, даже если его триумф лишь наполовину принадлежит ей. Она полагала, что выходит у него из паха вооруженная, готовая к поединку, ведь Юпитер слаб и распутен. Она приближается к нему вплотную в мучительной братской несостоятельности.
Когда включает свет, глаза у нее припухшие, точно после кошмара. Она зарекается встречаться с Одеттой. Пусть Одетта идет к этому жеребцу. Но за ней последуют другие: Сесиль, Франсин, Арлетт, Коко, Катлин, Анхель Кайдо, Маргарита… Допросы позволят Одетте досконально изучить двойственность слова «конфуз». Не важно, кто, наобум — например, Сесиль. Свет может быть оранжевым, если сейчас лето. Нет, синим — зима. Тогда потолок и простыни будут аспидными в надвигающихся сумерках. Неподвижная сцена — фотография, на которой коричневая мебель становится антрацитовой, серой, как ночь, а кожа тронута этим черным, низким светом. Там все еще можно выделить миг, вырезать изображение, сделать из него картину некой жестокости, — слишком сильно сказано, — скорее уж, суровости, что хотела бы скрыть собственное имя, выкрикнутое в черно-серой комнате: черной, как ночь, и серой, как зеркало.
Подобно всем модницам, Сесиль завела себе третьего или четвертого любовника — третьего и четвертого, живет в его семье и когда-нибудь выйдет замуж. По сравнению с Сесиль, что расхваливает его с пылом зазывалы, жаждущего сбыть товар, Габриэль кажется гениальным блудодеем, музыкально одаренным Геркулесом, фигурной мишенью, еще более ненадежной, чем несостоятельность. Габриэль краснеет и волнуется Лишь ослепление бурными порывами могло вынудить Габриэля заводить столь недостойные его романы, думает она и в то же время признает за ним верховную власть, избавляющую от выбора и ограничений.
Она наблюдает за Сесиль сквозь черноту комнаты: вытянутый белый торс, живот цвета луны и руно — темное, как ночь. Невидимое лоно Сесиль становится еще осязаемей, его замысловатый рисунок преследует Габриэль, которая рисует его указательным пальцем на ладони, выводит, как слепец — воображаемый эстамп, как слепой соглядатай иного плана, иного измерения: его серебристые глаза расшифровывают сладострастие зеркала без амальгамы, внезапно озаренного ртутным светом. Габриэль Одетты и Габриэль Сесиль чередуются на вращающейся сцене. Прибывают или еще прибудут Габриэли Анхель Кайдо, Франсин, Коко, Катлин, Маргарита, занимая место предыдущего, дублируя его, умножая. Каждая деталь возникает из него самого. Прямолинейность хорошо продуманного рисунка, вечно возобновляемое каприччо — разнообразное, детально проработанное. Суровость четких линий, легких теней, маньеризм композиции, который заменяет фотографическая точность комнаты. Габриэль видит, но ничего не слышит. Конечно, она могла бы слышать, ведь совокупная энергия изолированной системы пребывает неизменной. А ведь она — изолированная система, создающая себе новые правила, новые образцы, а также исключения. Она решает чаще встречаться с Сесиль. С Сесиль и теми, что появятся позже. Неискреннее намерение и скрытый умысел. Ведь она любит девушек. Как стервятник — глаза. — Ты спрашиваешь о том, о чем не рассказывают. Говорить об этом — неприлично. Как будто мало того, чем мы занимаемся! Ты хоть отдаленно представляешь себе наше положение? Если б он узнал!.. В конце концов… Твоя порочность — от него. Он как женщина: я хочу сказать, для него это игра — игра, которую он не спешит завершить и никогда не завершает. Порой кажется, будто это его не касается и он делает это просто из любопытства — как ты из порочности. Один раз он хотел повести меня в бордель. Возможно, просто посмотреть, а возможно, и поучаствовать в групповухе. Не знаю, но думаю — просто посмотреть. Я отказалась. Я отказывала ему во многом, в том числе — противоестественном. Он сложный человек. Иногда заставляет меня читать вслух. Если только верить всему, что говорят! Да, он любит сложные трюки, игры. Как и ты, вредина, ведь ты хотела в шутку поставить мне клизму. Ты подражаешь ему, чтоб быть похожим на него! Каков отец, такова и дочь. Я не верю ни тебе, ни ему. У вас извращенное воображение, вы играете с вещами и людьми, как дети, которым по тысяче лет, как брат и сестра, как… Нет, я больше не буду продолжать ваши порочные игры, ваши игры. Ну вот, порвала чулки…
Это говорит Коко — Коко-обжора: в перерывах между объятиями она мчится на кухню нарезать бутербродов, сварить яиц, начистить фруктов. Эта рыжая коротышка со вздернутым носом и тонким голоском ненавидит все, что представляется сложным, и сводит такое потрясающе сложное явление, как питание, к упрощенному акту обжорства.
Зеркало без амальгамы вызвало бы у Коко головокружение, но взгляд — важнее рассматриваемого предмета.
С тех пор, как Габриэль пристрастилась соблазнять модниц и, особенно, вести тайные допросы, она сдержаннее в отношениях с
Габриэлем, ведь он стал ей дороже. Свод запретов шире, церемониал изощреннее, улыбки осторожнее, речи серьезнее, жесты — исключительно целомудренны. Габриэль больше не отваживается класть голову на плечо Габриэля, когда они вместе слушают музыку. Поскольку он не всегда говорит о том, что замечает, вполне можно предположить, что он обратил внимание на отчужденность и, вероятно, даже сам иронично сеет подозрения.
Осознавая собственную сдержанность и стесняясь собственного стеснения, Габриэль чертит круги в черной пыльце тюльпанов, осыпающейся на деревянный стол. Она чувствует, что, продолжая или делая вид, будто продолжает читать, Габриэль, действительно заметивший холодность, задается вопросами, истинную сущность которых она не в силах себе представить. На страницах книги внезапно проступают два окна, пропускающие его взгляд. Габриэль предпочитает выйти из комнаты. Дело не в том, что ее мучит совесть или то, что принято обозначать этим словом: просто ее совесть обрела особую форму. Ни за что на свете Габриэль не хотелось бы, чтобы Габриэль проведал о ее набегах в плохо охраняемый заповедник, однако ей не терпится ему рассказать. Тем не менее, она ничего не расскажет, разрываясь между облегчающим душу признанием и сладострастным молчанием. Что же касается игры с зеркалом без амальгамы, она предпочла бы умереть, нежели узнать, что ее секрет разглашен, и умрет в любом случае, если это когда-нибудь случится. Умрет со стыда — смерть, о которой говорят лишь in abstracto,[1] хотя, наверное, она вполне возможна: переменчивая, но конкретная точка, где преодолена и отменена всякая терпимость, а человека топит волна стыда, будто гася пламя.
Габриэль включает свет и закрывает лицо, превращая ладонь в козырек. Ей кажется, будто Габриэль стоит в самом низу лестницы.