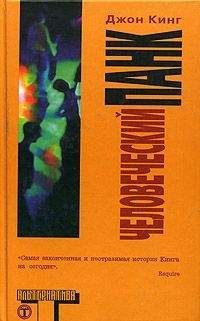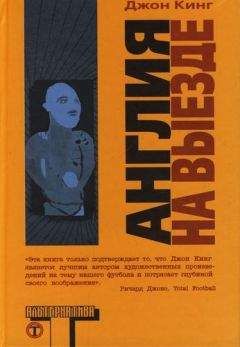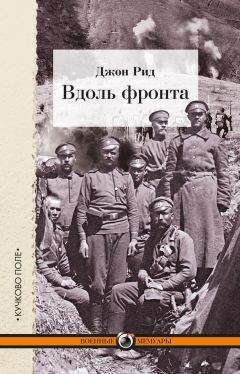Наверно, в конце концов, дело действительно в размножении, постоянная пульсация жизни и смерти, семена, которые надо посадить, нежно и ласково, в теплоту живота Матери Природы; и я замечаю в отдалении отца, когда съезжаю с основной дороги, белая точка волос движется между кустами бамбука и ржавыми заборами участков. Мама выходит из хибары, и старик поворачивается и кивает, идёт к ней и исчезает внутри. Я в ясном и крепком сознании, прекрасное и сочное настроение, какое приходит в конце удачной недели, жизнь несётся, крепкая и устойчивая, прекрасная женщина готова открыть мне дверь и в карманах есть монеты. Вот так и надо жить, дни сменяют друг друга, никаких осложнений, так всегда, дела идут лучше всего, когда начинают собираться облака перед штормом, так что я улыбаюсь и говорю себе держать ушки на макушке.
Я втискиваюсь рядом с фургоном Эла, с надписями по стенам «САНТЕХНИКА АЛЬБЕРТО». Альберт — парень среднего возраста, с тряским пивным животом и сухим кашлем от сотен сигарет, что он выкуривает каждый день. Он совсем не похож на латиноса, но он специалист, работал на меня за небольшие деньги, когда я ремонтировал квартиру, говорит, что «О» на конце имени помогает обтяпывать делишки. Мол, женщины чаще всего ведут хозяйство и принимают важные решения, и когда они читают имя Альберто, им представляется стильный итальянец. Похоже, среди моих друзей это сработало бы по-другому; их мужья, пролистывая Жёлтые Страницы и, заметив латинское имя, сразу бы вычеркнули парня из списка, потому что представили бы проходимца вроде Бареси. Альберт говорит, что последнее слово всегда остаётся за женщиной, и когда он приезжает, мужики ужасно рады, что приехал не обольстительный говорун, метящий бабе в трусы, и его тут же нанимают. Этот двойной блеф кажется мне полной хуйнёй, но ему нравится. У них с отцом участки рядом.
Я захожу в ворота, мама, кашляя, бродит по дому с бутылкой, тот же кашель, что и у Альберта. Она привыкла к самому плохому наркотику, куда там экстази. Она пыталась, но не смогла бросить. А я никогда не думал о матери и отце, когда был ребёнком, они просто были рядом, жили своей жизнью, работали себе, считали каждый пенни, растили детей и счастливо просиживали перед телеком пять-шесть часов каждый вечер. И только когда старика уволили и он перестал смотреть телек, я увидел вещи, как они есть, выбор, который делают люди, чтобы поднять семью, их жертвы; и простая правда в том, что если ты живёшь сам по себе, можешь не рассчитывать на чужую помощь. Смешно, все такие великие моралисты, читают лекции о взаимопомощи, но никто сроду не позаботится о своих близких, о людях, кому действительно можно помочь. Много разговоров и мало дела, просто хотят, чтобы их видели в хорошем свете.
Весна — лучшее время года, жизнь снова просыпается, женщины выходят из спячки, всё становится возможным. Старик приезжает сюда каждый день, мама по возможности. Это его рай, и даже зимой он бывает тут пару раз в неделю, вспахивает землю, чтобы мороз проник внутрь и подготовил почву к севу. На Рождество мы ели его брюссельскую капусту, и он был так горд, что вырастил её, что не надо было идти покупать. Зима для отца ничего не значит, он просто ждёт, чтобы снова стало светло и можно было бы выйти на улицу. Сейчас он почти не смотрит телек. Я привык думать, что он болван, который сидит там, на диване, пациент психушки, который позволяет докторам колоть себе, что они хотят, что волны бытовых мелочей растворили его мозг. Но, как он говорит, если ты работаешь весь день и ещё сверхурочно, когда возвращаешься домой, то слишком измотан, чтобы ещё чем-нибудь заниматься.
— Всё в порядке, сын? — спрашивает отец, облокотившись на грабли.
Я киваю и сажусь в шезлонг, который он упёр с пляжа в Селси в прошлом году. У мамы тут термос с чаем, она налила мне чашку. Тут небольшой островок сельской местности, и когда я был ребёнком, я часто летом собирал вишни, в паре миль дальше по дороге. Был тут парень, он по ночам ходил воровать яблоки, цыган, он странствовал по всему миру, но когда появились путешественники новой эры, многое изменилось, старые места стоянок позакрывались, и исходные бродяги остались за бортом. Это приятные воспоминания, и я понимаю, почему отец приезжает сюда. Для мужчины это честная работа. Тот парень из Суиндона уехал в Нью-Йорк, интересно, где сейчас тот похититель яблок.
Пытаюсь вспомнить его имя, не выходит. Сейчас я редко выбираюсь на поля, застрял в городе, но это нормально, это мой выбор. Спрашиваю маму, помнит ли она, как я ребёнком собирал вишни.
— Когда ты приходил домой, вся одежда была в пятнах, на деревьях грязно, — говорит она, улыбаясь.
А я смотрю на её лицо, на нём следы прожитых лет, представляю смолу, осевшую в её лёгких, взгляд затуманивается, и я хочу обнять её и попросить не стареть, сказать, что она должна собраться и жить вечно. Я смотрю на отца, и хочу попросить о том же самом, сделать невозможное.
— Надо посадить вишни, любимый.
Отец поднимает взгляд и садится в другой шезлонг.
— Нормальные вишни тяжело вырастить. Надо ставить сети, чтобы птицы их не поели.
В доме через дорогу включается радио, любовная песня, названия не знаю. Чья-то любимая баллада. Лицо отца напрягается, но он оставляет всё, как есть, смотрит на Майора в дальнем углу участка, на заросшую вьюнком сетку, которую он поставил то ли для бобов, то ли для гороха. Майор живёт тут, в тиши и спокойствии, с тех пор как его любимая умерла, и дом перешёл к нему по наследству, раньше он ездил на работу на поездах, а потом получил удачное предложение на приватизацию. Выкупил дом и хорошо устроился. У него нет ни семьи, ни дорогих привычек, по крайней мере, мне так кажется. Если честно, я мало что о нём знаю. Он — вещь в себе. Тэтчер хорошо подфартила Майору.
— Мы умрём раньше, чем деревья вырастут и начнут плодоносить, — говорит отец. — Расти себе зерновые — и не ошибёшься. Порей, ревень, шпинат, свекла, картошка. Они не подводят.
— И морковь, дорогой.
— Морковь совсем не так проста, — говорит отец, хмурясь. — Песок, который мы засыпали в прошлом году, проредил почву, и мы защитили урожай. Повезло. Надо будет добавить ещё песка. Надеюсь, в этом году уродятся помидоры. Было бы неплохо. У них под шкуркой ферменты. Полезно для желудка.
— Лучше бы два-три дня не есть жареную картошку, — говорит мать, наклоняется вперёд и улыбается, кашляет, прикалывается над отцом, который расселся, словно великий Будда.
Я помогаю старику вскапывать землю, у него проблемы со спиной, большие толстые черви проскальзывают между зубьями грабель, я доделываю работу, и мне достаётся ещё одна кружка чая; солнце жарит высоко в небе, я покрыт потом, под поверхностью расцветает жизнь, а сверху земля сереет. Когда движение на магистрали стихает, появляется окончательное ощущение сельской местности. Красиво и мирно, днём тут в основном пенсионеры и безработные, люди, которые распоряжаются своим временем, не хотят сидеть дома и загнивать, борются и находят альтернативы, тащат себя за волосы вверх в затерянном мире ржавых заборов и поломанных досок, пластиковых бутылок из-под колы, под которыми прячутся ростки, старых окон в теплицах и залитых бетоном брусьев, ростков, проглядывающих из груд старья, покосившиеся хибары обиты пластинами из кокосовой стружки, повсюду цветут нарциссы, спасённые от общественной свалки.
Майор ворочает компостную кучу вилами, втыкает их в груду гниющей травы. Подъезжает полицейская машина, оттуда выходит коппер и зовёт его. Интересно, на фига. Коппер идёт к багажнику и достаёт три мусорных пакета. Майор идёт через ворота к машине и, кивнув, утаскивает мешки на участок. Машина уезжает, а Майор возвращается к работе, сгружает навоз в компостную кучу, прессованное дерьмо коней из конной полиции, залог успешной борьбы за урожай. Он всегда был местным придурком, патрулировал улицы и арестовывал людей за плевки мимо урны, если вспомнить, наверно, корни этого уходят в то время, когда мы были детьми. Часто плевались и слишком много дрочили. Помню, Майор стоит посреди двора, как опущенный, его обозвали идиотом, который крутится вокруг школьников. Никогда не думал о нём в этом ключе. Просто он был слегка тормознутый, и из-за того, что он бродил по округе дни напролёт, его все знали в лицо. Сейчас его редко кто видит, разве что кроме тех, кто у себя на участке. Я иногда пытаюсь с ним заговорить, но он не отвечает.
Участки стоят на самой окраине, в баре ниже по дороге на ужин каждую пятницу собираются алкаши, там же стриптиз, простой бар для синяков с простыми девушками, не какое-нибудь живое секс-шоу Прекрасной Белинды. Одна-две бензозаправки, заколоченные досками, пуленепробиваемое стекло заменили фанерой. Сорняки уже начали разрастаться во дворе, охренеть, как миллиарды семян и насекомых прячутся в щелях, ждут своего времени, готовы захватить территорию. В прошлом году было нашествие слизней, они истребили большую часть овощей, но это всё фигня, участок — просто повод выбраться на свежий воздух, хотя и в денежном плане они помогают. Я привёз отцу специальные семена, он просил забрать их в Вулис, ранние бобы и редиска, и каждый пенни посчитан, совсем как шпинат, он дорогой в супермаркетах и растёт почти весь год, если его растить вместе со свёклой.