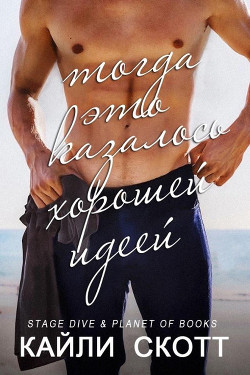на Диму своими чёрными, как уголь, глазами, по которым сложно было понять, что они хотят донести. – Расслабься, всё круто. Я тебя ждал!
Саня редко говорил, от чего его слова всегда имели особый вес.
Знаете, мы ведь не помним свою жизнь досконально. Тысячи деталей стираются из памяти, а какие-то задерживаются навсегда, становясь ярлыками событий или даже целых жизненных периодов. Прошлое выглядит как старая плёнка, просмотреть которую можно лишь частично, глядя на свет, пытаясь разобрать – кто же там, на этом маленьком коричневом квадрате, в негативе, потому что и камер уже таких не осталось, и плёнку почти никто уже не напечатает.
Мы быстро напились, и Ванька начал звать всех с собой на концерт, послушать каких-то его корешей, широко известных в узких кругах граффитчиков. Соглашаются только Заха, Грач и я.
Ту ночь я запомнил всего в нескольких деталях, но детали эти были настолько яркими, что врезались в память так, будто случились со мной только вчера.
Первая. Мы, пьяные, выходим из метро. Когда поднимаешься из подземелья на улицу, город постепенно опускается на тебя сверху вниз: сначала ты видишь мутно-рыжее небо, потом краешки самых высоких крыш: стеклянных небоскрёбов, шпили высоток, потом кубики лифтовых шахт на жилых домах пониже (каждый раз думаешь о людях, которые живут прямо рядом с метро, и раз за разом мысленно взвешиваешь все «за» и «против» их жизни). Далее: окна домов, этаж за этажом, деревья, шапки людей, их лица и плечи, и наконец мир предстаёт пред тобой в привычной плоскости. В подземке ты едешь долго и каждый раз слегка удивляешься, что над тобой, оказывается, целый город, а люди ходят ногами по земле, совершенно позабыв, что под ними город едва ли меньше.
И вот мы бежим трусцой вверх по гранитным ступеньками подземного перехода. Как только взгляд охватил привычную перспективу, мимо нас проносится нерусский парень с разбитой головой. Багровая кровь в ночи кажется почти чёрной, она хлещет из раны, оставляя за ним прерывающуюся кривую, повторяющую траекторию его бега. Через секунду мимо нас проносятся два парня. Они бегут за ним и что-то ему в след орут. Их крики утопают в вечернем шуме города.
Я тогда подумал, что парни эти очень на нас похожи. Одеты были так же. И вообще кричали так же, как кричали бы мы. А потом я увидел их совершенно пьяными на концерте. Они, стоя на сцене, ударили кулаками в грудь, раскинули руки над головой, крича всё те же лозунги, и прыгнули в толпу, перевернувшись в полёте спиной к распростёртым для них рукам. Мы полезли делать то же самое. Моменты, как мы дошли до клуба, зашли в него и всё началось, стёрлись из памяти ещё той ночью, но образ двух правых и лицо того парня, которому посчастливилось вскочить в уходящий автобус, я помню как наяву.
Вторая деталь той ночи. Чувство осипшего голоса после того, как мы орали, вторив пацанам на сцене, и баттла, наполненного сизым дымом, ходившего по кругу прямо в зале. Бутылка взлетала на пьедестал ораторской славы, где резко вдыхалось содержимое, не прерывая читки. Дым оседал в лёгких, не выходя наружу, а бутылка шла дальше по залу. Охраны не было, или она была заодно?
В какой-то момент, заливаясь слезами, я вывалил на улицу, чтобы отдышаться. Глаза резало, в горло будто налили горячего гудрона, я не мог остановить кашель («бл*, что я только что скурил?»). Когда я вернулся, уже непонятно было – где артисты, а где публика: кто-то из зрителей читал в микрофон наизусть то, что забывали артисты, а кто-то из артистов дрался со зрителями прямо под сценой, сорвав с себя майку. Это была феерия. И то ощущение… Очень хорошо его помню…
Я – ребёнок. Маленький мальчик. Море. Я прыгаю в волну, и волна закручивает меня так, что я перестаю понимать, где дно, а где поверхность, хотя между ними меньше метра. Мне и страшно и весело. Крутить перестаёт, и вроде появляется возможность вынырнуть, как вдруг волна тянет на глубину. Не хватает воздуха. Я отчаянно барахтаюсь. Мне страшно. Мгновение, когда я наконец выныриваю, глубоко вздохнув… облегчение, восторг, желание повторять снова и снова – всё смешивается в нём…
В ту ночь было так же. Я был в волне. В потоке. Не очень понимал, что именно происходит, потому что вообще об этом не думал, с головой погрузившись в растянувшуюся на часы эмоцию. В угар. Тяжело дыша, ликуя, я выныриваю наконец на поверхность – в последнюю, третью, запомнившуюся деталь той ночи…
Ослепительное платиновое утро. Яркое-яркое, белое. Таким оно может быть только после рассвета и до того, как наступит день. Мы высыпали на улицу огромной толпой, которая всё не может угомониться и, скандируя строки, стучит сотней кулаков обо всё металлическое (дорожные знаки, двери машин, автобусные остановки), бьёт в стёкла, зеркала, прыгает на какие-то заборчики, скамейки, переворачивает все встречающиеся урны, кидает камни в стёкла подъездов… HallaVandala!
Вакханалия кажется мне уморительно смешной (революции и перевороты совершаются толпой; самое жестокое насилие совершается толпой; голос толпы всегда заглушает голос совести одного из её участников). Толпа стихает, потихоньку рассасываясь по разбегающимся во все стороны улицам, но мы всё ещё в одной из её волн, и я не знаю, куда она несёт меня. Я был абсолютно пьян и накурен, мой взгляд вылавливал лишь какие-то кусочки из картины происходящего: кисти рук, сжимающие толстые маркеры и оставляющие свои росписи на всех попадающихся поверхностях. Много кистей, у всех маркеры. Красивые, заковыристые каракули. Конечно, они абсолютно стёрлись из памяти, но где-то там, на тех стенах и стёклах, остались их чёрные следы… Потому что HARD TO BUFF ничем не сотрёшь…
Я помню, как все волны вновь стеклись в толпу у входа в метро. И снова началась буря. Новорождённое утро приобретало цвета. Мы ждали открытия в пробирающей до костей свежести. Уборщицы в оранжевых жилетах, в своих грубых, мужицких руках державшие черенки швабр, ошкуренные и пропитанные потом ладоней, со старыми, тёмно-серыми холщовыми тряпками на концах. Они с минуту смотрят на нас с испугом, переглядываясь, а потом бросаются на утёк, затворив за собой старинные дубовые двери, ведущие в хозяйственные помещения станции.
Парни лупят по стёклам, повторяя мотивы футбольных кричалок и знаменитых куплетов, выносят все двери и стены чёрными надписями, толкают друг друга, громко смеются.
Всё, что было таким значимым, через пару лет – пережиток истории. И уже огнём других идей горят глаза пацанов. Сердцевина идей этих всегда одна – бунтарство. Впрочем, исход тоже всегда один – покорность.
Служащий боязливо