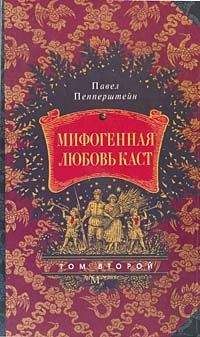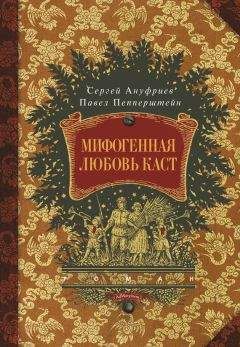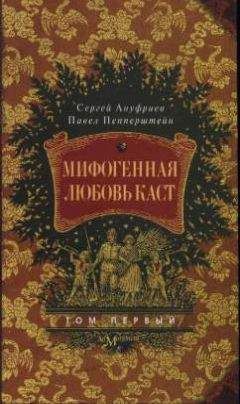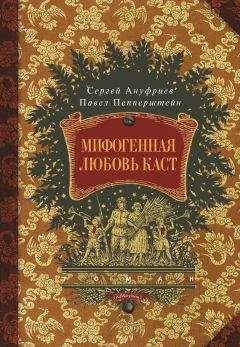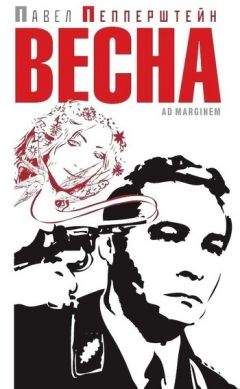Дунаев медленно ехал в тумане, опустив поводья. Давненько он не ездил верхом, а ведь когда-то в деревенском детстве не слезал с коня целыми днями, ходил с табуном в ночное, спокойно сидел на коне без седла, управляя одними ударами пяток. Белая поджарая лошадь шла шагом, уныло пофыркивая. «Неплохая лошадь, объезженная, — отметил про себя парторг. — А для такого глухого, лесного угла — превосходная». Он еще вчера во время визита к доктору Арзамасову, понял, что тот — любитель лошадей. Расслышал ржание из конюшни, в кабинете приметил кожаный арапник, небрежно брошенный в кресло. Да и сапоги на ногах врача явно были для верховой езды. Оно и понятно — как еще сельскому врачу добираться в окрестные деревни да на дальние хутора? На телеге не проедешь, пешком не дойдешь — тут без верховой езды никак не обойтись. Доктор-то здесь был один на всю эту глухомань. Ну да где он теперь? Немцы увели с собой, а может, и убили. А жаль — хороший был врач, Павел Андреевич, каких мало.
— Ну что, лошадка, где твой хозяин? — спросил Дунаев у лошади. Та громко и тоскливо заржала. В ответ ей из тумана раздалось ответное ржание. Дунаеву показалось, что ржали две лошади, причем одновременно.
Парторг тронул поводья, лошадь пошла туда, где что-то темнело. Вскоре стало видно, что это большое одинокое дерево, растущее посредине поля. Снова послышалось двойное ржание из тумана. Что-то белелось там. Дунаев присмотрелся, подъехал чуть ближе и с печалью понял, что это белеется. Человеческая фигура в белом медицинском халате висела под толстой веткой. Ноги в дорогих сапогах для верховой езды болтались над землей.
— Не помог вам, Павел Андреевич, йоговский прием против повешения, — промолвил Дунаев, подъезжая.
Тут ему пришлось вздрогнуть. На белом лице врача что-то шевельнулось, тронулось, и вдруг открылись глаза. Таких глаз парторг еще не видал. В глубине зрачков лежали еще глаза — закрытые, с седыми ресницами. Они затрепетали и тоже открылись. В них снова были глаза, и снова закрытые, похожие на детские, с округлыми свежими веками и темными глянцевыми ресницами. И эти глаза открылись. В их темных зрачках были еще глаза, уже нечеловеческие. Кожистые веки, напоминающие веки игуаны, приподнялись и что-то вроде тускло-золотого света пролилось из этого коридора глаз.
— Многоглазый! — промолвил парторг изумленно.
Повешенный спокойно достал из нагрудного кармана халата очки и надел их Тут же глаза приобрели обычный вид, если не считать того, что они были желтые и яростные.
Одной рукой врач ухватился за веревку, на которой был повешен, подтянулся, схватился за ветку, и вот уже сидел на ветке, глядя на Дунаева.
— Прием помог, — сказал он. Было ясно, что это сидит совсем не сельский врач, а страшный вражеский оборотень, принявший облик Арзамасова. Дунаева охватило радостное предвкушение боя. Он достал из кармана ослиный хвост и медленно намотал его на руку.
— Может, петля оказалась слабовата, Павел Андреевич? — спросил он, бесстрашно глядя на оборотня. — Не желаете попробовать мою?
Повешенный медленно снял с шеи петлю.
— Петля очень хорошая, — сказал он. — Очень хорошая петля.
Голос у него был ровный, трезвый.
— А что здесь произошло? — спросил Дунаев. — Вчера еще навещал вас. Одна ночь прошла, а деревни уже нет. И словно бы давно уже нет.
— Прошла не одна — много ночей прошло, — ответил оборотень. — Вскоре после вашего ухода немцы привезли мне нациста на осмотр. Офицер СС, не первый год в карательных частях, воевал в Испании, Греции. Вроде бы не трус. Но кто-то все же напугал его. Что с ним стряслось — никому не известно. Внезапно потерял дар речи, апатичен, целыми днями раскачивается, спит не более двух часов в положении сидя, из еды принимает только тухлые яйца, да и то в малых количествах. Воду пьет, предпочитая грязную, из луж. В общем, налицо ступор в результате шока с элементами субмиссии и прогрессирующего психоза. Испражняется, не снимая одежды. Честно говоря, я не знал, что с ним делать. Пытался говорить с ним — он молчал. Не отвечал на вопросы, раскачивался. Ну, я решил показать ему картинки. Я сам делал рисунки, раскрашенные акварелью, пытаясь зафиксировать все стадии экспериментов, которые мы проводили здесь. Эксперименты с животными, по гибридизации. Я сам проводил их в своем глухом углу, на вольной ноге. Когда-нибудь мои усилия будут оценены по достоинству. Я всегда чувствовал: чтобы углубиться в подлинное исследование, чтобы достичь результатов и толково их систематизировать — для этого мне надо удалиться от городского шума, от суеты, уйти и от настоящей клинической практики. В деревне я нашел себе полигон, вне людских страстей, среди взглядов скота и диких зверушек. Но этот пациент… на картинки не реагировал, разве что стал меньше раскачиваться. Да рот открылся, пошла слюна… Мне как-то тяжело было с ним работать. Неприятное существо, хотя и больное. Чувствовалась в нем обреченность. Решил попробовать крайнее средство — показал ему живой результат моих экспериментов, живого гибрида. Средство почти что из арсенала Бога, из разряда китов и бегемотов. Однако-с этот упрямый германский Иов не излечился. Напротив, умер. Резкое сокращение сердечной мышцы и пневмосудорога в кризисной форме. В общем-то, хорошая смерть, но его товарищи не поняли, засуетились. С криками, с шепотом уехали, оставив несколько человек при автоматах, для надзора… Через несколько часов пришли грузовики, в них — солдаты. Согнали всех селян, вслух прочли бумагу о том, что опыты над животными в Третьем Рейхе запрещены. Я, дескать, издевался над бессловесными бестиями, а партизанам оказывал медицинскую помощь. За это я приговаривался к повешению, селяне — к выселению. Всех деревенских увезли в грузовиках — не знаю, какова их судьба. Деревню сожгли, меня повесили. Так вот сложились обстоятельства, Владимир Петрович. Игра случайностей, не более… Скрещения… Хотите взглянуть на другой любопытный гибрид? Точнее, не гибрид, просто удвоение. Я горжусь им. Взгляните, какая штука…
Врач щелкнул о ствол дерева петлей и издал странный звук. Тут же из тумана послышалось ржание и из белой пелены выдвинулась стройная верховая лошадь вороной масти. Впрочем лошадью она могла показаться лишь на первый взгляд. Голова увенчана прямым и острым рогом, так что это был явно не кто иной, как черный единорог. Однако этим монструозность этого существа не ограничивалась. Существо обладало двумя одинаковыми головами — одна спереди, другая сзади. Оно было симметричным, как карточный валет.
С первого взгляда становилось понятно, что искусственное существо обречено лишь на краткую жизнь, поскольку органов продолжения рода оно было лишено начисто. Тем не менее двуглавый единорог гарцевал, ржал и грациозно потряхивал двумя шелковистыми гривами.
— А вы, оказывается, жестокий, Павел Андреевич, — произнес Дунаев осуждающе. — Нацисты правильно наказали вас. Так издеваться над созданиями Божьими, скрещивать, дробить и удваивать их так и сяк. За такое Господь по седой голове вас не погладит. Выводить таких нежизнеспособных… А я-то, грешным делом, думал, что вы и есть Бог.
Глаза врача ярко зажглись желтым светом — яростным светом орлов, змей и ястребов. Видимо, его честь экспериментатора была задета.
— Нежизнеспособных, говорите? Скороспелое суждение, Владимир Петрович! Извольте оценить его боевые качества! Вызываю вас на рыцарский турнир.
Арзамасов снял с левой руки хирургическую перчатку и бросил ее к ногам дунаевского коня. Дунаев поднял перчатку, надел на руку. Она приятно скрипела.
— Вызов принят, Павел Андреевич. Дуэль есть дуэль. Дело чести. Так ведь, хуй постный?
Врач легко прыгнул с ветки и оседлал вороного двухголового единорога. Собственно, называть его единорогом не поворачивался язык, у него ведь было два рога — по одному на голову. Тут же всадник ударил каблуками по черным бокам своего скакуна, тот заржал о два голоса и помчался прямо на Дунаева. Если бы парторг не поднял своего коня на дыбы, в груди у него уже через секунду зияла бы дыра от рога. Черный мутант с наездником промчались мимо, мокрая петля хлестнула Дунаева по лицу — врач пытался использовать петлю как лассо. Дунаев не успел развернуться, а врач уже снова несся на него. Желтые глаза яростно сверкали, белый пламень седины полыхал на запрокинутой голове всадника. Таким вот — грозным, хрупким и величественным — видел его парторг на вершине Иерархии. Петля снова хлестнула по лицу, захватила шею, сдавила и дернула.
Пока на свете есть петля,
До той поры живет и нож.
Пока сидит во рту змея,
Святой Георгий в гости вхож.
Два всадника схлестнулись вновь,
Чтоб вспомнить слово «поединок».
Пускай наполнят дождь и кровь
Следы копыт, следы ботинок.
Лассо сдернуло парторга с седла, он ударился о мокрую землю, разбрызгивая слякоть. Его бы удавило, но он успел продеть руку между петлей и шеей. А врач тащил его по земле, разгоняя кругом своего двурогого монстра. Брызги земли летели в лицо Дунаеву, кусты и жесткие пучки травы беспощадно царапали лицо. Но чувствовалось, что он уже не новичок в боевых делах — он изогнулся и выбросил руку в сторону врага. Со свистом раскрутился в воздухе ослиный хвост, и петля обхватила шею доктора. Сцена до боли напоминала вестерн, когда два ковбоя симметрично накинули свои лассо на глотки друг друга. Не хватало только широкополых шляп и кольтов.