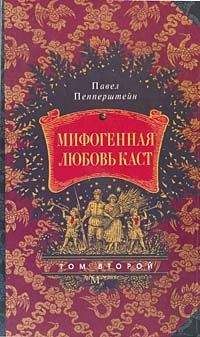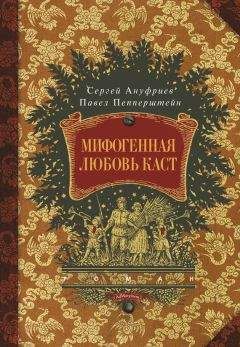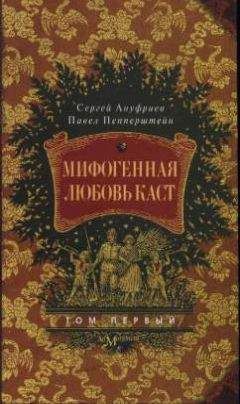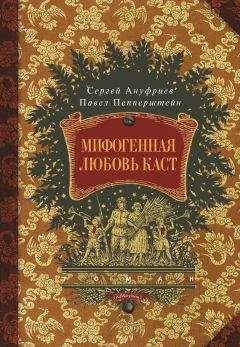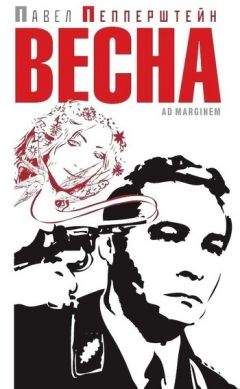Он с удивлением заметил, что из воды выходят и тянутся в сторону леса какие-то канаты. Даже не канаты, а тонкие стальные тросы, туго натянутые.
«Кажется, что-то строят, — горячечно подумал парторг словно бы углом мозга. — Молодцы. Несмотря на войну… А что жизнь — она и есть жизнь. Не все же разрушать… Концы в воду».
Но в душе нарастал ужас и оцепенение. Тросы чуть поржавели, их было десять. Дунаев проследил за ними взглядом — они уходили в лес, который темной стеной стоял недалеко. И тут Дунаев увидел десять фигур, которые одновременно появились на краю леса. Фигуры держали в руках металлические катушки и наматывали тросы, приближаясь.
Дунаев поднял к глазам бинокль и увидел их в подробностях. Они еще не полностью вышли из леса, проходя между его последних, разреженных деревьев. У них были серьезные, спокойные лица. И шли они спокойно и неторопливо. На некотором расстоянии друг от друга.
Первым с правого края шел мальчик в одежде художника. На вид лет десяти. Глаза спокойные, темные. На голове — берет. Шея повязана бантом, темно-синяя бархатная блуза, доходящая до колен. Как это ни страшно, прямо из его румяного детского лица вместо носа торчал толстый карандаш, остро заточенный. Мальчик был мутантом. Следующим шел мальчик в русском национальном костюме, словно из ансамбля народных плясок. Красная шелковая косоворотка подпоясана витым шнурком, полосатые шаровары заправлены были в красные сапоги-всмятку. На шее у него висела гармонь, роскошно сверкающая своими перламутровыми кнопками. Лицо было тоже русское, румяное, наливное, курносое. Светлый вихор свисал на лоб. Затем шла девочка, которую парторг уже видел однажды. Она была в простом летнем ситцевом платье до колен и в руке держала букет цветов. На расстоянии 20 шагов от нее из леса выходил хоккеист, точнее, хоккейный вратарь в полном снаряжении. Он шел тяжело, вонзая коньки в рыхлую землю, двигая клюшкой, на своих громоздких, заслоненных щитами ногах. Затем шел мальчик с черными курчавыми волосами, с чубчиком, в круглых очках — по виду отличник музыкальной школы. Он ничего не держал в руках.
Следующий мальчик, выходящий из леса, был одет ярко, щеголевато — синий широкий галстук, оранжевый пиджак, синяя шляпа с кисточкой. За ним из леса вышли еще двое, но они уже не имели человеческого облика. Это были робот и снеговик. Робот, ростом с десятилетнего ребенка, шел рывками, механически переставляя железные ноги, обутые в черные галоши. Глаза у него светились — это были две крошечные лампочки. Тело стальное. В целом он казался примитивным, простым. Снеговик шел на лыжах, улыбаясь линией в снегу, которая была проведена пальцем у него на лице, топая лыжами по мокрой земле и не тая от дождя. В центре шел Арзамасов. Слегка блестело его совершенно спокойное, чистое и благородное лицо. Морщины разгладились. Если бы не седые волосы и бородка, он казался бы молодым. Он. единственный взрослый среди детей (снеговик и робот размерами соответствовали детям 10-летнего возраста), был на две головы выше остальных, но шел чуть приотстав, словно бы пропуская детей вперед. Глаза уже не сверкали яростью, они стали спокойными и радостными. На лбу алели два свежих пересекающихся шрама, составляющих крест. Струйка крови сбежала с края креста по его щеке на бороду.
Одна рука у врача была пробита насквозь, и между пальцами также бежали яркие струйки крови. Но эти раны, полученные в бою с Дунаевым, не тяготили его. Он улыбался. Лица детей, вышедших из леса, тоже были спокойными, прекрасными и радостными. Никто не смеялся, но в глазах плескалось светлое, чистое, благородное веселье.
«Веселые…» — подумал Дунаев, и в его сознании это слово каким-то образом сразу же связалось со словом «Вселенная».
«Веселые — это те, кто выселился из Вселенной, — подумалось ему (возможно, это были мысли Советочки). — Есть Вселенная, а есть Выселенная, где живут на Выселках. Вот эти „веселые“ — они оттуда, из Выселенной».
Мы в пушистые шубки успели одеться,
Мы в ушанках и валенках ходим давно,
Только страшные тени счастливого детства
Вереницей веселой скользят из кино.
Из того, из того, из того кинозала,
Окруженного жаркой листвою, кустами,
Где впервые ты тайно мне пизду показала
И я жадно прильнул к ней устами… Устали?
Написал это слово «пизда» — и вздрогнул.
Не хочу оскорблять непристойностью честных людей!
Только слова другого не дал ведь Господь нам,
Да и это священно. Оно веселей,
Чем «ваджайна», что сумрачно дышит санскритом…
…Но пизда родилась ведь из птичьего крика
И из звона мочи по древесной коре,
Так из пены и крови взошла Афродита:
Родилась и зажмурилась на соленой, кипрейской заре.
В этом слове есть бездна, и мзда, и, конечно же, «да»,
И падение шарика с башни Пизанской,
В этом слове как будто идут поезда
И курчавится Пушкин в дохе партизанской.
Все равно это слово звучит как-то жестко,
Недостаточно нежно и влажно… Ну что ж,
Наш язык не старик, он пока что подросток,
И он новое слово когда-нибудь нам принесет.
Это будет огромнейший праздник. На улицах русских
Будут флаги, салюты и радостный крик.
Для того, чтоб ласкать наших девушек узких,
Да, для этого дан нам наш русский язык!
А девчонкам он дан, чтоб лизать белый мед,
Чтобы вспенивать нежные страсти,
Чтобы истиной тайной наполненный рот
Снова пел, лепетал и лечил от напасти.
А кино на экране стрекочет, как бабочка,
О стекло наших душ ударяясь и длясь.
И тени смеются, танцуют и падают.
И тени теней убегают, двоясь.
Два солнца над нашей безмолвной планетой,
Два солнца, и мы их лучами согреты!
Согреты, согреты, как пальчики Греты,
Как летние воды прогулочной Леты.
Одиннадцать приближались. Десять — с катушками и тросами. И в центре — доктор с кровью на лице, без катушки, без троса. Светлое веселье их глаз казалось образует лучи. Лучи скользили по тросам.
— Кто это? Неужели снова люди? Второй встречи с настоящими людьми я не вынесу… — прошептал Дунаев.
— Это не люди, сынок, — послышался у него за спиной знакомый голос.
Парторг быстро обернулся. На ржавой кабине грузовичка сидел Поручик. Он был в ватнике, в грязных сапогах, облепленных землей. Поодаль, на остове кузова, отброшенного взрывом, сидел Бессмертный в больничной пижаме и сером больничном халате, наброшенном на плечи. Оба внимательно смотрели на Дунаева.
— Это не люди, Дунаев, — подтвердил Бессмертный, — Это боги.
— Да, сынок, это боги, — кивнул Поручик. — Сегодня ты боролся с богом всю ночь. С одним из богов. Как видишь, он не причинил тебе вреда. Ты цел. Его же ты поцарапал. Ты оцарапал небеса, Дунаев. Но они не в обиде. Небеса не обижаются, не сводят счеты, их не замутняет человеческий гнев. Так что ты не ссы, парень. — Поручик по-дружески подмигнул парторгу.
— И что же мне теперь делать? — спросил Дунаев.
— Твое обучение переходит на новый уровень, — произнес Бессмертный. — Можешь считать, что закончил школу — и младшие и средние классы. Ты теперь поступил в высшее учебное заведение. В таких заведениях учителей уже не называются учителями. Их именуют профессорами. Вот твой профессор теперь. — Бессмертный показал длинным костлявым пальцем на Арзамасова. — У него и диплом есть.
— Как? А разве он не враг? — оторопело спросил Дунаев.
— Враг, — кивнул Поручик и прищурился. — Враг — и гораздо более страшный, чем ты можешь представить. Это настоящий Убийца В Белом Халате. Во всяком случае, так его называли во времена Гаруна аль-Рашида. Ты его силу почти не почувствовал — он с тобой просто игрался, как с кутенком. Вот разве что он уничтожил твой Сувенир. Теперь у тебя будут возникать серьезные проблемы с памятью. Тебя лишили хвоста, ослик. Хвоста, который связывал тебя с прошлым. Твой новый профессор когда-то практиковал как акушер — ему ли не знать, как перерезать пуповину? Но не бойся, станешь забывать — тебе напомнят. А про врагов мы тебе и раньше втолковывали — враги они только с одной стороны, в Играх. А за пределами Игр они — не враги. Поэтому пока к одному из врагов в обучение не поступишь — до Источников Игр не доберешься. Тебе бы до Источников Игр добраться и перекрыть их, понял? Тогда Игры иссякнут, и мир излечится. Пора отпустить вещи на свободу, не так ли? Вот только срастется ли у тебя такое дело? Ляжет ли фишка? Ой, не знаю. Ну, как бы там ни было, войну свою выиграешь. До Берлина дойдешь, а может, и дальше. К чужим учиться ступай, потому что война на чужую землю уходит. Там другие дела, другие боги. Поработай у них подмастерьем — наука попусту не провалится. Авось уйдет себе в говно и в сопли, мы потом огородики удобрять будем. Добрее надо быть, Володя. Все для жизни делается, а не для дохлых пауков, — неожиданно заключил Поручик и ласково погрозил Дунаеву пальцем.