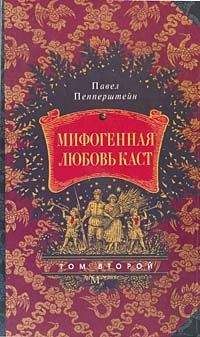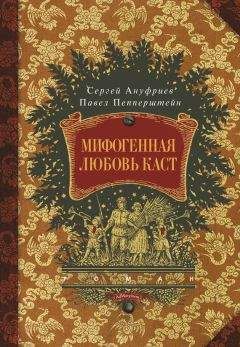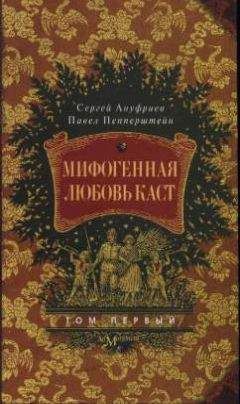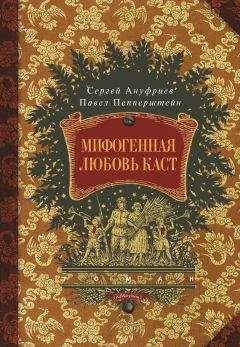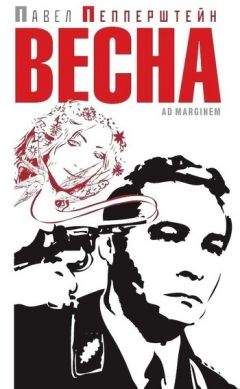«Хозяин, — в ужасе подумал парторг. — Вот он — Хозяин».
В голове мелькнула когда-то слышанная фраза: «Говорит, что тайному делу от Хозяина научился…»
Существо казалось гибридом лемура и тушканчика, причем верхняя часть тела была от лемура, а нижняя — от тушканчика, стоящего на тонких, длинных, вывернутых ногах. Существо бесцельно сжимало и разжимало свои витые пальчики, и в светящихся огромных глазах вместо зрачков застыли спиралевидные завитки. Дунаев узнал эти глаза. Не мог не узнать.
— Бо-бо! — пролепетали похолодевшие губы.
Вот оно — прозвище, связанное с болевыми сигналами! Наконец-то парторг догадался. А ведь догадка столько раз уже маячила поблизости! Все, что говорил врач о кличке «Айболит», была лишь детская ложь, призванная скрыть его настоящее имя, младенческое, жалкое и страшное. «Бо-бо» — именно так называют боль младенцы, а устами младенцев глаголет истина.
И парторг повторил несколько раз, словно пуская пузыри:
— Бо-бо. Бо-бо. Бо-бо…
Казалось, кто-то, давясь от внутренней спазмы, пытается обратиться к Богу, но не может.
Бо-бо был уже совсем не тот, каким когда-то Дунаев встретил его. Это был уже не «сыроед», не пузан с влажным ротиком, слизывающий мясо с костей. Годы войны изменили его — он стал аскетом.
Бо-бо подал знак, и животные напряглись, тросы дрогнули, вода забурлила. Что-то большое выдвигалось из омута в воронке. Дунаеву стало невыносимо страшно. Он отдал бы все на свете — лишь бы тросы оборвались и «это» снова ушло бы в глубину.
Но нечто уже выдвигалось из воды.
— Что это? — спросил парторг у Хозяина, указывая вниз. Ответ пришел не сразу. Существо как-то настраивало свои губы, как музыкальный инструмент, чтобы произнести ответ. Наконец, с трудом, очень тихо и по слогам, как говорят те, кто не говорит никогда, оно произнесло:
— Бе-ге-мо-тик…
— Что? Зачем.. Зачем они тащат его? Ему же там хорошо! — Дунаев кричал почти с отчаянием. Его била дрожь.
Существо сжало и разжало свои ручонки. Что-то умоляющее было в этом жесте, но глаза смотрели и светились безучастно. Губы неуверенно задвигались:
— Чтобы… он… стал… свободен…
Слово «бегемот» — древнееврейское и означает «скот» и вообще «животные», поэтому неудивительно, что нити от всех животных тянутся к одному, спрятанному в глубине, — к бегемоту. Поскольку он обозначает сразу всех, является их тайным совокупным именем. Но тросы дернулись, и «нечто» еще больше выдвинулось из болота. Стало видно, что это никакой не бегемотик.
Из заболоченной глубины котлована выдвигалась вещь, которая никак не могла быть бегемотиком. Какой-то облепленный тиной и грязью предмет выдвигался на тросах.
Парторгу показалось, это стол.
— Свободен… — повторил Бо-бо.
И в этот момент Дунаев осознал, что Бо-бо ничего не сказал. Он все время лишь молчал, парторг сам говорил за него. Струи дождя прокатились по предмету, смывая с него тину и глину. Стала проступать белизна. Дунаев хотел отвернуться, зажмуриться… но не мог.
Это был белый рояль.
Бо-бо перестал тереть свои пальцы и робко опустил руку, делая подобие приглашающего жеста.
— Сыграй! Сыграй нам… — что-то зашелестело вокруг. — Сыграй… Пусть будет музыка…
Что-то умоляющее, нежное, но властное было в этом шелесте.
Дунаев стал спускаться в воронку. Сапоги проваливались в землю по голенище, потом холодная болотная вода полилась ему в сапоги, но он ни на что не обращал внимание. Рояль, накренившись, висел перед ним на тросах, наполовину уходя в воду. Тина свисала с него.
Парторг поднял крышку с таким ужасом, как будто поднял крышку собственного гроба. Но внутри были лишь белые и черные клавиши.
Он заиграл. Когда-то он уже играл на этом рояле… И сейчас, хотя играть ему было неудобно, и рояль висел перекошенный, облепленный скользкой тиной, и сапоги все глубже уходили в болото, все равно собственная игра заворожила его.
Играя, парторг закрыл глаза и с удивлением убедился, что за закрытыми веками идет фильм. Черно-белый, советский, тридцатых годов. Назывался он «Композиторы». Сюжет такой: группа молодых и красивых женщин и мужчин едут на Каспий, на нефтяные вышки. Женщины в нарядных платьях, с красивыми прическами, мужчины в широких чистых костюмах, у всех глаза светятся от счастья. Все они — молодые композиторы, и цель их поездки — совместными усилиями написать симфонию под названием «Нефть». Фильм показывал жизнь композиторов на нефтяных вышках, их дружбу с нефтяниками, и совместные поиски новой скважины, и трудное становление симфонии, и, наконец, глубочайший экстаз, когда после долгих поисков и пробных буров пошла нефть… и вместе с ней хлынула и музыка. Фильм завершался сценой экстатического купания в нефтяном фонтане — композиторы, прямо в своих нарядных костюмах и платьях, купаются в нефти вместе с рабочими-нефтяниками, и вспыхивают белоснежные улыбки на черных маслянистых лицах… И симфония… Готовая симфония звучит в свою полную силу…
Фильм закончился. По экрану побежали какие-то цифры, кресты, разрывы пленки. Потом вдруг возникла надпись через весь экран:
«СССР будет существовать до шестьдесят девятого года».
Дунаев обомлел от этого неожиданного пророчества. Он не помнил точно, какой сейчас на дворе год, но приблизительно знал, что дело идет к середине сороковых годов, и о Родине своей он привык думать, что она будет жить всегда, побеждая всех врагов и одолевая все беды. И тут вдруг эти слова на экране, написанные стандартным шрифтом, как слово «Конец» в конце фильма.
«Как так „до шестьдесят девятого“? Это же… это же совсем скоро. Это же всего-навсего каких-то двадцать пять лет. Пять пятилеток всего. Да не может такого быть!».
В душе парторга поднялась волна горечи и скорби. Как будто он поверил этому мрачному пророчеству. Да, и в самом деле поверил. Но почему? Ведь парторг был тертый калач, которого не проведешь на мякине, отнюдь не доверчивый, бдительный и наяву, и во сне. Но он поверил, потому что сообщение пришло не снаружи, а изнутри, оно появилось на экране его собственного сознания, выступило из глубины его тайной души — души волшебника и провидца, выкованного нелегкими годами войны.
«Как же так может быть? — думал он, не открывая глаз, сидя в темном кинозале своего мозга, после того как фильм закончился. — Неужели фашист верх возьмет? И еще двадцать пять лет будет идти война, а потом они победят и уничтожат все, выжгут саму память о нашей стране? Но нет, эта война к концу идет, немцу пиздец, по всему видно. Это в воздухе чувствуется.
Значит, Америка. Америка, блядь. Я всегда догадывался… Вот откуда придет нам каюк: с другой стороны земли. Через двадцать пять лет будет война с Америкой, и Америка победит. Украдут наше счастье и утащат за океан… Как же это так? Надо бы разведать».
Так думал Дунаев, и боль в его душе плескалась как чернила в бутылке. Теперь он хорошо понимал, что такое «ай, болит!», что значит «бо-бо». Боль жила в душе, и душа хотела кричать. Это была боль за всю страну, за то бесконечно хорошее и доверчивое, что скрывалось в ее людях и деревьях, боль за Великую Надежду, которая стала воздухом социалистической России, за тот открытый хохот нефтяников в кино. Но, одновременно с болью, душа парторга наполнялась и музыкой. Прекрасная, сочная, радостная, свежая, как ландыш, продолжала звучать симфония «Нефть». С таким первозданным напором, с такой беспечной силой рвались из бездонных глубин эти звуки… Дунаев, не открывая глаз, стал наигрывать на рояле, пытаясь воспроизвести основную тему «Нефти». Это ему удалось, и он играл все быстрее, упоеннее, и хотя невозможно было вместить звучание всех инструментов симфонического оркестра в черно-белое фортепьяно, звонкая радость брызгала из-под пальцев. Рояль весь гудел и качался на тонких тросах, и чувствовалось, что тросы уже с трудом выносят его тяжесть.
Вдруг раздался звон как от лопнувшей струны, и что-то хлестнуло Дунаева по плечу. Рояль покачнулся и стал уходить из-под рук, но Дунаев настиг его. Он подумал, что лопнула струна в рояле, но это лопнул один из тросов. Тут же — с тем же тягучим стоном, лопнул и второй.
Дунаеву вспомнилась легенда о Паганини, которому враги подпилили струны на скрипке перед концертом, чтобы посрамить его славу, и струны лопались и взрывались одна за другой, угрожая изуродовать скрипачу лицо, но Паганини закончил концерт на последней струне, и она лопнула с последним аккордом…
«Значит, я действительно гений, раз против меня такое затевают. Я великий пианист, — подумал Дунаев, ощутив еще один удар от лопнувшего троса. — Буду играть до последнего!»
Кровь, кажется, капала с его лица на клавиши.
Лопнул четвертый трос, и пятый, и шестой. Рояль стал уходить обратно в болото. Вместе с ним погружался и Дунаев. Но он все играл.
Черная пузырящаяся вонючая влага колыхалась уже у самых клавиш, потом стала заливать клавиши. Потом он играл уже сквозь воду, и звук тонул в бульканье и жадном чавканье болота.