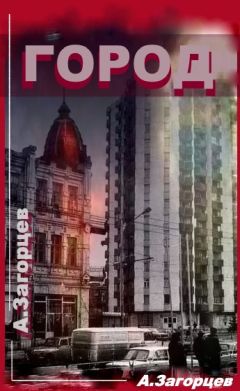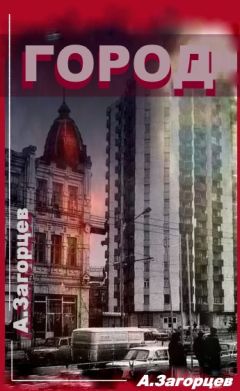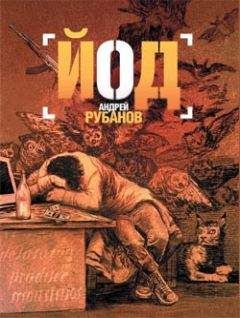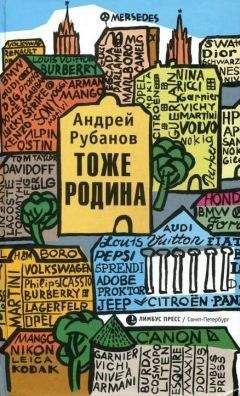Нет, мы не были сильно пьяны. Наша стадия сердобольному русскому человеку известна как «выпимши». Мы не шатались, не горланили песни, не вели себя агрессивно – но неверные движения рук, заплетающиеся языки, блестящие глаза и глуповато изогнутые мокрые губы явно изобличали в нас нарушителей режима.
– Этих – в трюм! – распорядился Намбэ Уан, с отвращением глядя на нас. – Остальных обратно.
Ближайший ко мне коммандос немедленно ткнул меня дубинкой в спину.
– Вперед!
Я зашагал. Благоухающих спиртом, нас отконвоировали на первый этаж.
Уже на лестнице за моей спиной послышался негромкий диалог. Двигавшийся последним Слава Кпсс и продолжающий ругаться ДПНСИ отделились от процессии, приотстали. Я услышал, как Слава что-то тихо доказывал, увещевал, а большой мент гневно взрыкивал, – впрочем, тоже себе под нос. Вскоре их голоса вовсе исчезли.
Я повеселел. Слава – выкрутился! Наверняка его сейчас отведут обратно, и тогда – мы спасены, все! И смотрящий, и я, и Джонни, и Малой. Трюма, то есть карцера, мы не боимся. Но идти туда сразу всем – никак нельзя! Кто тогда упорядочит жизнь ста тридцати голодных, невменяемых людей? Кто пресечет драки, воровство, прочий беспредел? Можно было не сомневаться, что именно эти доводы шептал хитрый Слава в ухо возмущенному майору.
Однако мне стоило подумать и о своей собственной судьбе. Если на Централе станет известно, что в нашей камере посажены за пьянку все дорожники, что Общий груз брошен на произвол судьбы, по глупости, из-за водки,– конец тогда авторитетному Славе Кпсс. А мне – и подавно. На моей арестантской репутации будет поставлен жирный крест. А ведь мне, в отличие от Славы, еще сидеть и сидеть. Впереди суд, потом – «осужденка», этап и лагерь...
Очутившись посреди пустого помещения с кафельным полом, я понял, что сейчас произойдет не самое важное, но долгожданное, многократно предчувствуемое событие. Безнаказанный будет наконец наказан. Впрочем, давно пора. Когда-то давно, в середине лета, в этой маленькой комнате с грязными стенами капитан Свинец пытался склонить меня к сотрудничеству с МВД.
Вслед за мной вошли трое, широкоплечие, в масках, – но тут же все сдернули через голову черные тряпки и оказались молодыми людьми моего возраста – румяными, массивными клонами капитана Свинца; только глаза смотрели не так умно. Атмосфера сгустилась.
– Где взял водку? – спокойно спросил один из румяных, ударяя резиновой дубиной в огромную ладонь.
– Я водку не пил,– ответил я.
– А что ты пил?
– Мурцовку.
– Брагу, что ли?
– Ее, начальник. Брагу.
– Ладно... А мясо? Откуда мясо?
– Я мяса два года не ел.
– В хате пахнет жареным мясом.
– Мы жарили не мясо.
– А что вы жарили?
– Ландорики.
– Это что?
– Берешь хлеб,– растолковал я,– нарезаешь тонко – и жаришь...
Румяные переглянулись.
– Дерзкий,– поставил диагноз тот, что стоял справа.
– Нарежем его тонко,– предложил тот, что расположился с фронта.
Я отшагнул назад. Хорошо бы почувствовать лопатками стену. Иногда к стене ставят лицом. Иногда про стену поют рок-музыканты. Иногда главную улицу мирового финансового мира называют «улицей стены». А бывает, что стена хороша не в виде песни или бизнес-символа, а как защита от удара сзади.
Однако я не успел. Получил пинок по щиколоткам, сбоку, и в этот же миг меня схватили за плечо и рванули вниз. Мои шлепанцы черными стремительными бабочками отлетели в стороны. Кости грянули о кафель пола. Приложились ногой, обутой в тяжелый кирзовый ботинок. И еще раз, и еще.
– Вот тебе – мурцовка! А вот – ландорики! В общем, менты все-таки отпиздили нашего банкира, господа. В комиксах без этого нельзя. Били без особого энтузиазма. Наверное, если бы захотели – пожизненно искалечили; но не захотели. Возможно, здесь практиковались разные варианты побоев, и в моем случае имел место вариант щадящий, воспитательный, для проформы. Не били – пинали; не всаживали каблуки в грудную клетку, не целили в голову, и размах массивных шнурованных ботинок ни разу не поимел максимальной амплитуды.
Я получил два или три десятка ударов в мягкие ткани, по ягодицам и задним поверхностям бедер. Я многократно огреб резиновой палкой по плечам и локтям – опять же все болезненно, жарко-жгуче, но в целом почти терпимо. Я поимел сильные затрещины, тычки кулаками в затылок, в виски, в уши – но не в лицо; его я защитил ладонями и высоко подтянутыми к голове коленями. Вдобавок, находясь в этой позе эмбриона, я катался по прохладному кафельному полу, норовил уйти с траектории удара. И еще – орал как резаный. Едва не визжал. Не от боли, а исключительно в целях самозащиты. Известно, что когда побиваемый громко кричит, это смущает экзекуторов. Мало ли кто посторонний, пусть даже и свой брат-режимник, проходя мимо по коридору для служебной надобности, услышит, задумается и доложит потом высокому начальству?
Свои вопли я старался оформлять вербально, то есть не просто выл «А-А-А!» или «О-О-О!», а выразительно хрипел, стращал, грозил, матерился, клялся и божился. Вспомним, наконец, и то, господа, что я находился в состоянии опьянения; пьяному море по колено: алкоголь притупляет боль, это известно.
Привлеченный запахом яда, появился нувориш Андрюха. «Поздно, господа! – хохотал он в лицо камуфлированным кумовьям (те ничего не слышали, зато слышал я). – Поздно лупцуете! Его надо было раньше поколотить, гораздо раньше! Полтора года назад! В первый день, как арестовали! В «Лефортово»! Когда он был тепленький, мягенький, при костюме от «Кензо», в крокодиловых черевичках! Ах, как бы тогда пошли ему на пользу ваши пинки и оплеухи! А сейчас все без толку! Зря расходуете силы, господа менты!» Не будучи услышан, мерцающий, не для всех реальный, Андрюха канул в пустоты пространств.
По окончании воспитательной процедуры, в самый момент водворения в карцер, я пребывал в сознании. И даже ощущал, помимо острой боли в разных частях тела, некое сдобренное молодой отвагой удовлетворение: я попран, унижен, побит, но жив, цел и едва не весел.
Настоящая боль проявилась позже, через несколько часов. В тесной, сырой каморке, лежа на голых досках, желая пить, есть, согреться, голый по пояс, вибрирующий от ощущения, известного в арестантской среде как «отходняк», я прочувствовал въяве свою долю.
1
В восемь утра принесли еду. Я вскочил с дощатого ложа. Хромая, приковылял к двери.
– Давай шлемку,– сказал баландер.
– Нету. Мальчишка из хозобслуги пошарил на своей тележке и протянул мне мятую алюминиевую посудину.
– Чаю,– попросил я громким шепотом.
В емкость хлынула коричневая, дымящаяся, густо пахнущая жизнью жидкость. Я схватился за алюминиевые края и тут же отдернул руки – горячо. Баландер терпеливо ждал. Очевидно, развозя по трюму пищу, он не раз видел избитых и окровавленных людей. Ему были хорошо знакомы их реакции. Наконец мне удалось изловчиться, подхватить драгоценный сосуд, отнести его и поспешно поставить на лежак. Дверная дыра захлопнулась.
Чай дымился. Меня мутило от жажды. Я попробовал поднести миску к губам – слишком, слишком горячо. Алюминий, крылатый металл, мать его, идеально проводит тепло. Мне пришлось нагнуться, опустить опухшую физиономию, и я стал лакать, как пес.
Вскоре появился сильно пахнущий дешевым дезодорантом трюмный надзиратель. Он отвел меня в каптерку и отобрал штаны, спасшие меня ночью от холода. Заключенный карцера получал казенную одежду: серую хлопчатую пару с черными поперечными полосами.
– «Кензо»? – спросил я, помяв в руках шершавый материальчик. – «Версаче»?
– Версаче замочили,– в тон ответил трюмный, демонстрируя понимание основных трендов фэшн-бизнеса. – Одевайся, пацан. Срок свой знаешь?
– Нет.
– Пятнадцать суток.
Облачившись, я побрел – руки за спину – назад, неотличимый от арестанта с классической карикатуры. Трюмный пристегнул деревянные нары к стене, замкнул особым ключом и оставил меня в одиночестве.
Я поискал, где сесть. Но в прямоугольном боксе карцера, два на три шага, сидячие места не были предусмотрены. Лежачие, естественно, тоже. На сыром, холодном, как могила, полу я разместиться не смог. Остался такой свободный выбор: либо стоять, либо ходить, либо присесть на корточки. В любом случае опорой служили только ноги.
Стянув с себя полосатую робу, я осмотрел поврежденные конечности, потом оторвал от трусов длинный лоскут, помочился на ткань и протер кровоточащие ссадины на локтях и коленях. Дурной запах не в счет, главное – предотвратить воспаление. В местном климате всякая царапина способна за неделю обратиться в огромный гнойный фурункул. Забота о своем здоровье, о чистоте и гигиене – вот одно из важных правил арестанта «Матросской Тишины».
Несколько часов прошли в безделье. Ныли поломанные ребра, отбитый зад и спина. Я бы уплатил по любой таксе за таблетку обезболивающего, за маленький белый цилиндрик анальгетика. Но свои деньги – несколько пятидесятирублевых банкнот, свернутых в трубочку – перед самым выходом из камеры, в сутолоке у двери, я незаметно для всех сунул в ладонь своему «стировому».