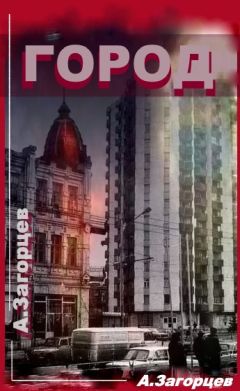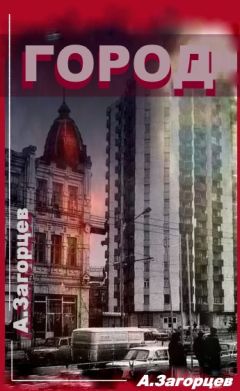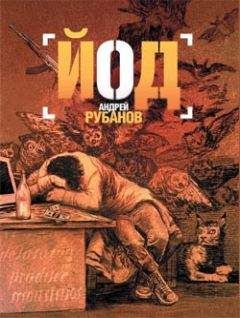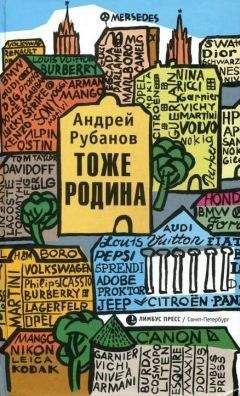– Это что? – спрашивает он с подозрением.
– Здесь пятьсот долларов. Мы в расчете. У Толстяка багровое, испитое лицо старого клиента алкогольной тюрьмы. Он с подозрением шарит по мне глазами.
– Не может быть!
– Десять месяцев,– с наслаждением произношу я,– по триста пятьдесят долларов в месяц – это три тысячи пятьсот. Вот еще пятьсот. Итого четыре. В расчете, Вадим! В расчете!
Толстяк берет со стола зеленые бумажки, бережно перегибает пополам, сует в нагрудный карман.
– Откуда у тебя взялись деньги? – с подозрением интересуется он. – Краску, небось, воровал?
Я выдерживаю паузу и задаю встречный вопрос:
– У тебя бухгалтерия есть?
– Конечно.
– И как? Дебет с кредитом сходится?
– Вроде, да.
– Значит, Вадим, никто у тебя ничего не воровал.
– Логично... Выходит, твой долг погашен?
– Именно.
– Все четыре тысячи?
– Ага. Я вздыхаю.
– Чего? – добродушно спрашивает мой бывший сокамерник.
– Когда-то я зарабатывал такие деньги за один день. Толстяк вяло отмахивает рукой.
– Это дело прошлое... Я смиренно киваю; здесь не возразишь; с тех времен, когда я за день делал по четыре тысячи долларов, прошло семь лет. Те деньги, быстрые и большие, развратили меня. Именно на это намекал мой собеседник.
– Кстати,– продолжил он негромко,– прикрой-ка дверь, пожалуйста...
Я послушно выполняю просьбу. Сегодня я погасил весь свой долг и намерен уволиться к чертовой матери из фирмы Толстяка. Теперь он не может отдавать мне распоряжения, а только просить.
Повернувшись к холодильнику, он достает бутылку яда, затем лезет в сейф и кладет передо мной бумаги.
– Распишись вот тут,– еще тише просит босс. – Только не за себя.
Без лишних слов я беру протянутую авторучку и изображаю на квитанции к приходному ордеру замысловатый вензель.
– Мастер ты,– говорит Толстый. Я морщусь.
– Все равно твои бумаги подписаны одной рукой. Это видно. Невооруженным глазом.
– А кто будет смотреть в мои бумажки вооруженным глазом? – Вадим подсовывает вторую квитанцию. – Теперь еще здесь что-нибудь нарисуй. Другим почерком.
– Не выйдет,– авторитетно возражаю я. – Почерк нельзя изменить. Я тренировался почти три года. Никакого эффекта.
– Вот видишь,– снисходительно усмехается Толстяк. – А ведь тогда, в камере, мы – вдвоем! – никак не могли тебя убедить, что твои занятия бесполезны...
– Не все,– отвечаю я и подхожу ближе к столу Толстяка. Он сидит прямо передо мной, ко мне лицом.
Глядя в узел галстука строительного магната, я показываю пальцем на лежащие на столе бумаги.
– Это... заявление на кредит... в местное отделение Сберегательного банка,– читаю я. – От вчерашнего числа. Это... письмо... от судебного исполнителя. Это...
– Хватит, я понял, – обрывает меня Толстяк. – Развил, значит, периферийное зрение?
– Тренировался семь месяцев, по полтора часа каждый день. Много интересных бумажек на столе у следователя прочел.
– Верю. – Толстяк озабоченно прячет документы в папку. – Значит, увольняешься?
– Да.
– Куда ты теперь?
– Не знаю. Две руки, две ноги, голова есть – не пропаду.
– Ладно. Давай по пятьдесят граммов?
– Алкоголь, кофеин, никотин – не употребляю.
– А я – выпью... Помнишь Фрола?
– Конечно.
– Умер.
– Откуда знаешь?
Толстяк опять заглядывает в холодильник – но там, я вижу, только колбаса. Трех или четырех сортов. Полукопченая. Бросив взгляд, магнат кривит губы и закрывает белую дверь своего хранилища харчей.
– Позавчера напился,– сообщает он. – Тоска пробила. Дай, думаю, позвоню – и вот, узнал. Мать сказала... Жаль человека...
– Ага. Босс выдерживает паузу.
– Оставайся у меня работать.
– Это исключено.
– Не сварщиком,– спешит Толстяк. – Лучше. Будешь приходить три раза в неделю на два-три часика, сочинять липовые накладные. Как ты это умеешь...
– С меня хватит. Я лучше роман сочиню. С детства мечтаю.
– Как знаешь.
Некогда мой сокамерник, а сейчас работодатель опрокидывает в себя дозу молдавского коньяка «Квинт» и занюхивает штемпельной подушечкой «Тродат».
– Закуси колбасой,– предложил я.
– Я на нее и смотреть не могу...
– Сочувствую. Толстяк с минуту молчит.
– Знаю,– медленно говорит он,– ты на меня в претензии.
– За что?
– За то, что я тебя заставил отрабатывать долг.
– Ты меня не заставлял,– вежливо возражаю я. – Если помнишь, я сам тебе предложил такой вариант.
– Все равно ты – в претензии! – упрямо повторяет магнат. – Ну и пусть. Если хочешь – можешь бросить в меня камень.
– Никогда,– искренне говорю я.
Толстяк сопит.
– Зачем ты вообще ко мне пошел, а? Ты же умный, опыт есть. Устроился бы в какой-нибудь банк, там зарплаты в пять раз больше и работа чистенькая. Рассчитался бы со мной в три месяца...
– Нет, в банк я не пойду. Один мой приятель, по жизни юрист, уголовный адвокат, тоже как-то пошел в банк работать. На большой оклад.
– И что?
– До сих пор сидит. Того банка уже в природе нет – а юристу четыре года дали. Общего режима.
– Значит, дурак твой юрист.
– Не глупее меня.
– А ты думаешь – ты умный?
– В принципе, да.
– Ты такой же дурак, как и все. Только очень везучий. И счастливый.
Босс выпивает ежедневно. После ста пятидесяти граммов яда становится сентиментален.
– Это почему? – удивляюсь я.
– Ты молодой.
– Зато – судимый.
– И я судимый.
– Но ты – богатый.
– Зато я сидел пять лет, а ты – меньше трех...
– Но теперь ты – целый директор фирмы, а я – голодранец.
– Зато тебе – тридцать, а мне – пятьдесят.
– Мне тридцать три.
– Но не пятьдесят один...
– Зато ты спас деньги! А я – нет.
– Дурак! Ты – спас семью! – Толстяк снова наливает. – Твоя жена – дождалась, а моя – сбежала. Продав четыре моих дома. Поверь, сынок: жена, которая дождалась, стоит всех денег на белом свете. В общем, иди, увольняйся. Кстати, я бы и сам тебя уволил.
– За что?
– Плохо работаешь. Медленно. Я ухмыляюсь. Мне понятно, что Толстяк лукавит.
Мои решеточки весьма хороши. Сварены – крепко, тонкими шовчиками. Загрунтованы – на совесть. Покрашены – тщательно. Вделаны – накрепко. Я получаю чувственное удовольствие, когда работаю руками. Мне нравится сам акт производства материального предмета – когда из кучи деталей, кусков железа, лоскутов и полос сизого металла нарождается замысловатая, потребная обществу вещь.
– Все, Вадим. Мне пора. Жена ждет.
– Ждет? – пьяно переспрашивает Толстяк. – Тогда тебе реально повезло, брат...
Я оставил его наедине с тюрьмой его подкожного слоя и вышел.
Сегодня у меня хороший день. Праздник. Долги отданы. Я вылез из ямы.
Из тюрьмы выйти просто. Сидишь и считаешь дни. Месяцы. Годы. Однажды – тебя выпускают. Труднее вылезти из ямы. Но я смог.
Теперь – домой.
4
Управляя машиной, я люблю болтать по мобильному телефону. Главные абоненты – жена и сын.
В девяносто пятом году мальчик-банкир приобрел сотовый телефон за пять тысяч долларов. Он шагал по улице, прижимая к уху черный аппарат, и на него оглядывались. Сейчас, спустя восемь лет, всякий школьник имеет волшебную трубочку.
Но нет добра без худа. Мобильная телефонная беседа ужасна. Люди не видят друг друга, не осязают исходящие токи тела и разума, не обоняют запахи волнения, тревоги, возбуждения или неприязни. Мгновенная дистанционная связь разгромила всю тысячелетнюю культуру общения. Ныне телефонные собеседники общаются, выразительно играя голосом, интонациями, громкостью; но при этом их лица от умственного напряжения оползают вниз, глаза стекленеют и смотрят в пустоту, рты теряют форму – иными словами, утрачивается красота, сверхчувственность, особая магия разговора. Теперь возможны такие диалоги, когда один собеседник чувственно шепчет, а другой напрягает слух и кричит, прижимая к уху трубу, посреди цеха или котлована:
– А? Чего? Да, я тоже тебя люблю! На хуй вы ее сюда кладете, кладите туда, в штабель! Нет, я не тебе! Конечно, люблю! А? Саид! Керим! Ахмед! В штабель, еб ты, в штабель!..
Подчас на связь выходят самые удивительные люди. Только что, например, позвонил старый друг, Слава Кпсс. Он опять попал в «Матросскую Тишину». За разбойное нападение с применением оружия.
Мобильная телефонная революция коснулась и постояльцев тюрьмы. В новом тысячелетии у всякого достойного парняги есть в кармане маленький аппаратик.
– Привет, брат, – сказал Слава очень глухо. – Как сам?
– Как сала килограмм! – отвечаю я.
Мой голос звучит бодро, уверенно. Любой человек с воли, каждый свободный чувак обязан испускать жизнеутверждающие звуки. Ведь он наслаждается жизнью, свежим воздухом, запахом женских духов, вкусом жареного мяса. Он кайфует, прется и тащится. Он получает удовольствие.
Именно так, с точки зрения арестанта, протекает жизнь за стенами следственного изолятора: буйный праздник, разноцветное сладострастье, женщины, еда, сигареты с фильтром, чай с сахаром.