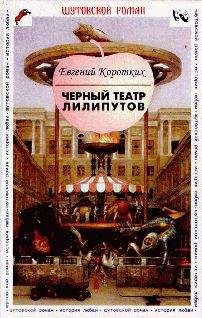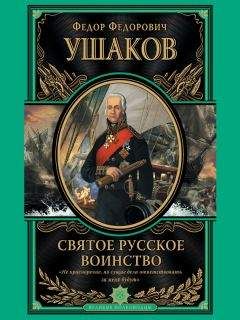Игорь Алексеевич Ушаков
Шлома и Ахишар
Пейте, пойте, веселитесь!
Юность рвет любые путы:
Чувствуйте себя, как витязь
В окруженье лилипутов.
Стояла невообразимая жара, полуденное солнце будто нарочно застряло в зените, не желая склоняться к горизонту. Нестерпимо мучила жажда…
Несмотря на жару, Давид сидел под навесом в белом тканом хитоне, укутав ноги нежным мехом молодого ягненка… Но согреть их он не мог — кровь перестала слушаться его слабеющего сердца…
На душе Давида было мерзко… И уже давно… Он ненавидел эту проклятую старость. Все было не в радость. Он вспоминал, будто не про себя, каким он был в молодости. Перед ним чередой проносились сонмы женщин, которых у него было столько, сколько бывает звезд в безлунную южную ночь.
А Вирсавия?.. Эх, красивая была баба! А теперь он отослал ее в дальние покои, чтобы не маячила на глазах… Да и что за радость лицезреть эту безобразную старуху, которой уже почти полвека! Разве у него не полон двор молодых дев?
Давид потянулся к чаше, где в прохладной воде лежали сочные призывно красные гранаты. Слуга беспрестанно менял чашу, принося новую с только что налитой ключевою водой. Давид достал гранат, слегка надрезал его по граням и разломил. Видимо, надрез был слишком глубок: гранат брызнул своей ярко багряной кровью на его белоснежное одеяние.
— Еще одна девственница окропила меня своей кровью! — в сердцах пробурчал Давид и раздраженно бросил прочь гранат, который, подпрыгивая по мраморном полу дворца, докатился до края площадки и свалился в песок.
Впрочем и это уже относилось к воспоминаниям… Девственниц Давид не знал уже давно…
Когда намедни услужливый главный его советник подложил ему в постель молоденькую сунамитянку, чтобы та согрела немощное тело царя, то Давид не смог ей ничем ответить на все изощренные девичьи ласки. И это тот самый Давид!..
Давид замер, устремив взгляд вдаль… Раздавалось пение цикад. На песке от легкого дуновения жаркого ветерка поднимались танцующими змейками маленькие смерчики, которые тут же моментально будто растворялись в воздухе. В воздухе пахло чем-то пряным.
Давид проснулся от прикосновения руки. Из-за спины раздался знакомый женский голос. Это Вирсавия подошла к нему неслышно сзади: она знала, что последние годы стала раздражать Давида, хотя оставалась по-прежнему первой женой и к ее голосу при дворе прислушивались не менее, чем к голосу самого царя Давида.
— О мой властитель! Я к тебе с вестью не столь приятной, но выслушай меня. Твой сын Адония, которого принесла тебе Агиффа, жена твоя, пользуясь временной немощью твоей — да даст тебе Господь Бог здравия и сил прежних! — объявляет везде публично себя царем Израиля…
— Но он же старший сын… Чего же ты хочешь?
— Но ты же клялся мне Господом Богом Израилевым, говоря, что Соломон, сын твой, будет царствовать после тебя, и что он сядет на престоле твоем вместо тебя…
— Клялся, говоришь? Господом Богом? Хорошо, позови мне священника Садока и пророка Нафана, и я объявлю им Соломона своим единственным наследником. Пусть он сядет на престоле моем. А сама уходи! Я устал… Иди, иди!
* * *
Приблизилось время умереть Давиду: почил он с отцами своими и погребен был в городе Давидовом.
И сел Соломон на престоле отца своего. И был он покруче отца своего во всех делах своих и во всех помыслах.
Вскоре пришел Адония к Вирсавии, зная силу ее в царстве Израиля, и сказал:
— С миром я к тебе, о владычица земли сей. Знаю твою справедливость, а посему и хочу тебя просить о малом. Я не прошу царстве, хотя я и старший сын Давидов. Пусть брат мой Соломон вершит судьбы народа Израиля. Я же прошу о малом: поговори с царем Соломоном, ибо он не откажет тебе, чтобы дал он мне сунамитянку в жену.
— Ты говоришь про ту девицу, Ависагу, которую взяли во дворец согревать постель царю Давиду?
— Да, моя повелительница…
— Хорошо, поговорю.
Вошла Вирсавия к царю Соломону, царь поклонился матери своей, и сел на престоле своем. На соседнем престоле по правую руку царя села Вирсавия.
— Сын мой, я имею к тебе небольшую просьбу, не откажи мне.
— Проси, мать моя. Смею ли я отказать тебе?
— Дай Ависагу сунамитянку Адонии, брату твоему, в жену.
Кровь прилила к лицу Соломонову, глаза будто молнии начали метать, и дыхание его перехватило… Вспомнил он, как в первую же ночь, когда привели Ависагу во дворец, увидел он красавицу, выходя из опочивальни отца своего. Обожгла она его своим чарующим взглядом так, что даже он, познавший уже многих, смутился, а сердце его заколотилось, словно птица, попавшая в силки…
Он вышел в сад и сел на своей любимой скамье под масличным деревом. Он, закрыв глаза, тихонько вполголоса стал напевать грустную заунывную песню, которую напевала ему в детстве его мать, баюкая его.
И вдруг — будто легкое дуновение ветра коснулось его лица. Открыв глаза он увидел перед собой прекрасную сунамитянку. Она стояла перед ним слегка прикрытая тонкой тканой накидкой. Лицо ее было в слезах.
Соломон узнал от нее, что отец его не смог овладеть ею, а когда понял это, то начал ее мучить, будто она была виною его мужского бессилия. Соломон начал утешать Ависагу, потом это перешло в легкие ласки, и вот уже два юных тела слились в единое целое…
Соломон и Ависага встречались каждую ночь тайно, и никто даже не догадывался, что между ними происходило: ведь покушение на честь наложницы царя — это был грех побольше измены Богу Израиля.
Когда Соломон стал царем, вокруг него было столько глаз и ушей, что встречи его с Ависагой стали редкими, но не менее желанными.
И вот теперь его мать говорит ему такое!
Соломон срывающимся от волнения и гнева голосом сказал матери своей:
— А зачем ты просишь Ависагу сунамитянку для Адонии? Проси уж для него сразу и царство! Ведь он мой старший брат, И решил после этого Соломон, что не жить Адонии. Послал он верного слугу своего отца Ванею к Адонии, и тот убил его…
И хоть чиста была Ависага перед Соломоном, но когда тот расправился с Адонией, то весь пыл-жар любви его к сунамитянке поугас.
* * *
Стал Соломон вести жизнь разгульную, проводя время в праздности и гульбе. А такая жизнь до добра не доводит…
От отца своего, наследовал Соломон два дара: дар неуемной любви к женскому телу и дар красиво говорить об этой своей любви.
Изрек он тысячи притчей и песен. О чем только он не писал: и о деревах, и о зверях, и о птицах, и о рыбах, но красной нитью прошло его всепоглощающее влечение к гуриям сладострастным!
Писал он так и о таком, что не будь он сначала царским сынком, а потом царем Израиля, многое ему бы не простили истинные проповедники! Восток, который славился всегда жестким надзором за женским целомудрием, стерпел от царя явную эротику, прославляющую не единственно позволенную любовь — любовь к мужу, но любовь вне брака и любовь далеко не платоническую. Многие из написанных Соломоном песен дают диалоги двух возлюбленных.
— О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна! Глаза твои голубиные, уста твои любезны, как половинки гранатового яблока, два сосца твои — как двойня молодой серны, пасущиеся между лилиями.
— Пусть придет возлюбленный мой в сад свой и вкушает сладкие плоды его. Поставили меня стеречь виноградники, а моего собственного виноградника я не устерегла.
— О, как прекрасны ноги твои, дщерь именитая! Округление бедер твоих — дело рук искусного художника… Живот твой — круглая чаша, в которой не истощается ароматное вино… Чрево твое — ворох пшеницы, обставленный лилиями… Два сосца твои — как два козленка…
— Я принадлежу возлюбленному моему, а возлюбленный мой — мне; он пасет между лилиями. Левая рука его у меня под головою, а правая обнимает меня.
— Лобзай меня лобзанием уст своих! Ибо ласки твои лучше вина.
— Стан твой похож на пальму, и груди твои на виноградные кисти. Подумал я: влез бы я на пальму, ухватился бы за ветви ее, и груди твои были бы вместо кистей винограда, и уста твои — как отличное вино. Оно течет прямо к другу моему, услаждает уста утомленных.
Любил царь Соломон многих чужестранных женщин, кроме дочери фараоновой — первой своей жены. Были среди его жен и наложниц и сунамитянки, и моавитянки, и аммонитянки, и идумеянки, и сидонянки, И хеттеянки…
И прилепился к ним Соломон любовью. Правда, любовь ли то была или просто похоть? Ведь было у него даже по древнему еврейскому закону семьсот жен и триста наложниц. Ведь тут, меняя женщин каждодневно, встретишься с каждой раз в три года. Да и то в полумраке опочивальни царской да после обильного возлияния. О какой любви может идти речь, если он вел себя как похотливый козел в стаде молодых козочек?