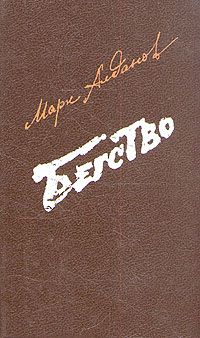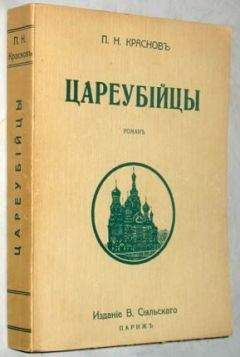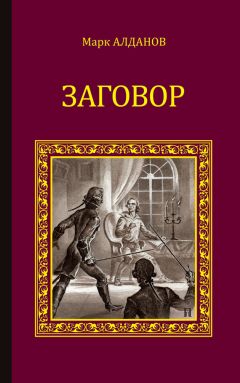«Parlez pour vous»[29], — хотел было сказать Талызин, которого все больше раздражал этот самоуверенный старик, в неприятно саркастическом тоне перескакивавший с одного серьезного предмета на другой. Но Талызин не сказал: «Parlez pour vous» из учтивости и в особенности потому, что счел этот ответ слишком общедоступным: вероятно, так подумала половина гостей.
— Я, конечно, говорил о себе, — сказал Ламор, отвечая обшей мысли. — В нашей среде полагается быть откровенным, хотя это и трудно. Вот я на себя и оглядываюсь: опыт жизни у меня есть, большой опыт, господа. Много я видел и ко многому был причастен. Что же мной руководило? В молодости на девять десятых похоть, но это в счет не идет. Потом себялюбие — тоже не идет в счет… Жажда знания? Да, это было и осталось: у всякого человека есть что-либо одно, самое настоящее, самое подлинное, — у меня, пожалуй, это. А вот жаждой общественного блага, каюсь, прежде я не страдал вовсе. Я об этом и не жалел, видя, что делалось вокруг меня, особенно в последние годы. Ведь тысяча самых свирепых разбойников, тысяча Картушей, господа, не пролила десятой доли той крови, которую, из жажды общественного блага, пролил добродетельный Робеспьер. Я и думал прежде: слава Господу Богу, что не все люди и не целый день мучаются жаждой общественного блага, а то они давным-давно перерезали бы друг друга. Так я думал. А потом пожалел. Почему, сказать затрудняюсь…
Он замолчал.
— Я, господа, — начал Ламор снова, — скажу прямо: я не могу себе представить другого понимания жизни, кроме чисто пессимистического. Я как те грешники, которых, помнится, Данте посадил в ад за то, что они не любили жизнь: «Tristi fummo nel aer dolce dal sol s’allegra…»[30] Так, видно, я до самой смерти не пойму, в чем тут было преступление. Боюсь, боюсь жизни! — вскрикнул он неожиданно и снова замолчал, закрыв глаза. Гости смотрели на него с все большим недоумением. На лице генерала выразилось сожаление: он опять, видимо, ждал другого. — Вот мне восьмой десяток, позади бесконечное кладбище, впереди как будто ничего нет, кроме смерти. А я боюсь, как бы она, жизнь, еще чем-либо меня не удивила, чем-либо постыдным, смешным, отвратительным, — она на это мастерица, на безвыходные положения… А ведь немногие так знали, так любили радости мира, как я. Мне и теперь до глупости тяжело сознавать, что всего этого я безвозвратно лишусь очень скоро. Я, человек, мучительно страдающий по ночам бессонницей, боюсь вечного сна, — как глупо! Да, да, я знаю, это старо, это очевидно до плоскости. Но в плоскость и упирается жизнь в своем конечном итоге. Говорят, без веры жить нельзя, — я хочу сказать, без веры в загробное существование. Можно, конечно, но очень, очень худо. А веру взять неоткуда, что же себя обманывать? Вот и вывертывайся как знаешь. Видите ли, господа, полторы тысячи лет — со времени Константина Великого — Европа жила более или менее спокойно, потому что была твердая, непоколебимая, почти всеобщая вера в загробный мир…
— Ну, не очень спокойно жила, — вставил Талызин.
— Все же спокойнее нашего, правда? Чума в счет не идет… Инквизиция поддерживала веру кострами — и по-своему была права. Не так глупы были эти люди, и фразами они не обольщались. Но теперь на наших глазах гаснут и земные, и адские костры. После французской революции адом никого не запугаешь — этакая расплылась на устах человечества скептическая улыбка, не дьявольская, нет, просто улыбка, скептическая улыбочка. Прежний смысл жизни потерян, новый не найден. Мир стоит на краю пропасти. Я не верю в возврат к карам, да и не хочу его. Отныне, по-видимому, приходится действовать больше при помощи наград, но это далеко не так верно.
— Мысли ваши вызывают в нас смущение, — сказал Талызин. — Мы, верно, плохо вас понимаем… Мне казалось, вы хотели нас познакомить с работой братства свободных каменщиков?
— Братства свободных каменщиков? — протянул как бы с удивлением Ламор. — Да я именно об этом и говорю. Боюсь только, что вы приписываете слишком большое значение братству свободных каменщиков. Что такое масонство? Масонство — это организация по борьбе с людоедством, действующая посредством раздачи орденов, выгодных мест и других хороших вещей тем, кто людоедством занимается меньше.
Баратаев встал и простился с хозяином дома. Наступило неловкое молчание.
— Вы торопитесь? — по-русски сказал, поспешно вставая, Талызин.
— Тороплюсь. И не люблю шуточек. Не так мне весело, да и стар я.
Панин тоже поднялся.
— И мне пора. Я только на четверть часа заехал, — сухо сказал он, слегка поклонился и вышел. Талызин проводил их и вернулся со смущенным видом. Гости переговаривались вполголоса.
— Должен вам сказать, — заметил Талызин, обращаясь к Ламору, — я никак не могу, да и все мы не можем, согласиться с тем определением масонства, которое вы дали. Мы…
— Вы совершенно правы. Масонство не поддается общему определению, каждый толкует его по-своему. Я говорил к тому же не о России, а о Западе. Да я и сам не рад, что наше масонство стало на такой путь. У него была великая задача: воспитание молодого поколения. Вот что поважнее власти и теплых мест. Великая, великая вещь воспитание… Масонство привыкло исходить из того, что человек хорош по природе. Я думаю, по природе он достаточно дурен. Но его можно усовершенствовать, если взяться за это достаточно рано. Возьмите акробатов. Какие чудеса может производить приученное с детства человеческое тело! Только начать надо лет с пятнадцати, не позже. Ведь акробатская техника улучшается с каждым поколением. Я думаю, душа тоже поддается гимнастике. Все будущее мира зависит от воспитания молодых поколений.
— Надо работать не над детьми, а над собою, — горячо сказал Талызин.
— Надо, конечно. Но для этого незачем создавать всемирную организацию, надевать ленты и говорить в глубокой тайне страшные слова. Вот мы поужинаем и уйдем, а вы наедине будете работать над собою, — сказал Ламор с улыбкой. Генерал опять засмеялся.
— Обряд и тайна необходимы. Надо поэтизировать мир тайной, — продолжал Талызин с еще большим жаром (он дорожил этой мыслью). — Без поэзии ритуала наше братство невозможно. Пусть масонство — компромисс религии с жизнью, пусть слово «брат» есть лишь символ грядущих человеческих отношений, ваше толкование для меня неприемлемо. Цель наша тройная: самоусовершенствование, создание лучших учреждений, создание лучших людей.
— Это не одна цель, а целых три. Отсюда и три направления в масонстве, — заметил кто-то из гостей.
— Нет, нет, разрешите мне пояснить свою мысль. Я готов и раба, как вы изволили выразиться, принять в масонское братство…
— Ну, это запрещено уставом, — вставил генерал.
— Ах, все равно, — сказал Талызин, с досадой махнув рукой. — Все равно! Я готов принять своего слугу в масонский орден и буду называть его братом. Пусть это фальшь, я знаю, я чувствую сам, — торопливо говорил он, отмахиваясь, хоть никто его не перебивал (да никто и не говорил об этом). — Но слово «брат» — символ будущих человеческих отношений, — повторил он. — Вся наша жизнь создана из символов. А сейчас перед нами задача — создать лучшие справедливые учреждения, без которых никакое братство невозможно, ни в настоящем, ни в будущем…
Ламор слушал его, улыбаясь.
— Из этого взгляда вышло братство французской революции, — сказал он. — Впрочем, я не спорю. Большой разницы в наших выводах нет… Спорили мы о разном, и довольно бестолково, уж вы меня извините… Я желаю полного успеха русскому масонству. Мне поручено нашим новым главою, Ретье де Монтало, передать вам привет. Делаю это с искренней радостью. Но, не скрою, некоторые сомнения у меня все же есть, сомнения основного свойства… Я, готовясь к смерти, вспоминаю книги мудрых людей… Очень мне хочется поверить в загробную жизнь. К несчастью, мудрые люди меня не убедили. Да еще точно ли известно, что они-то в загробную жизнь верили? Платон где-то проговорился, что сами боги не совсем бессмертны, не совсем и не всегда… Были у него, помню, разные «если». Не помню точно, какие именно, но были, были «если»… Так ведь то, видите ли, боги… Или стоики — они что-то лепетали странное: индивидуальная душа, конечно, бессмертна, но, так сказать, на некоторое время: поживет, поживет и сольется с мировой душою. Я думал, они шутят, право… А если я не желаю сливаться с душою Торквемады или Робеспьера? Я своей собственной не слишком доволен, но за семьдесят лет все же свыкся. Черт с ним, с Робеспьером. Уж лучше приму я восточную веру: на Востоке осведомленные люди предполагают, что души в лучшем мире распределятся по чинам, — душа мошенника перейдет, например, в ящерицу или в змею. Это мне как-то приятнее…
Он помолчал. Талызин хотел что-то сказать, но Ламор перебил его:
— Кант прямо говорит: если нет бессмертия, нравственный закон становится совершенно бессмысленным; а так как нравственный закон существует, значит, должно быть бессмертие. Я принимаю начало рассуждения и изменяю конец: если нет бессмертия, нравственный закон становится совершенно бессмысленным, — верно; а так как бессмертия нет, то нравственный закон… Нравственный закон есть нечто вроде тех акробатических фокусов, которым необходимо учить молодых людей… Да, да необходимо…