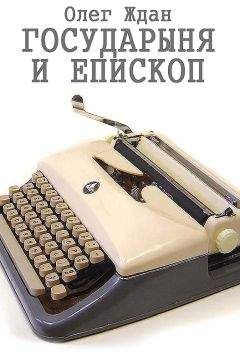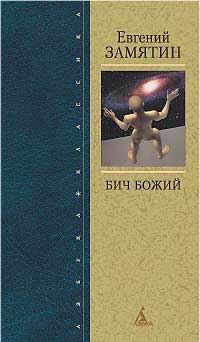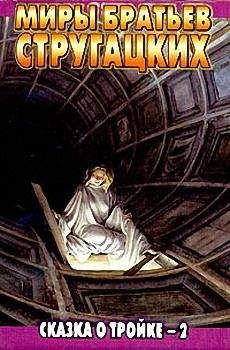С печалью в сердце слушал Сергия преосвященный. Что делать? Можно было бы посоветовать Киевскому митрополиту перевести Антона в другой монастырь, но — не уличен. Многие монахи тяжело переживают такие перемены, особенно если родились в ближних краях.
Сребролюбие — один из самых коварных, труднопреодолимых грехов. Сие одинаково и для русских, и для поляков, и для евреев. Вот и Ицхак Леви едва не в каждой проповеди твердит своим иудеям одну из заповедей Торы, на его взгляд, едва не самую важную: «Серебра своего не давай в рост и за лихву не ссужай своего хлеба».
Дом у отца Феодосия был довольно просторный. Имелось несколько больших спален: одна для дочерей, вторая для сыновей, третья для родителей, и особая спаленка для гостей. В каждой комнате стояла грубка, тщательно выбеленная, а в большой комнате печь была обложена зеленым немецким кафелем. Стоял дом при церкви, был обнесен забором: все ж таки не должно духовное лицо обретаться на виду у всех жителей. Имелся при доме сарай для коровы с подтелком, конюшня для рабочей лошади и двух выездных коней, хлевушок для овец и свиней. Был глубокий погреб с ледовней. Имелась и банька, которая порой использовалась как медоварня. Жители города были небогаты и потому прижимисты, так что рассчитывать приходилось прежде всего на себя и свою семью.
У монаха физических удовольствий не так много, и одно из них — баня. Потому, если случалось бывать во Мстиславле, преосвященный не отказывался от всегдашнего предложения благочинного Богоявленского храма Феодосия. Случалось ему бывать в банях Киева, Варшавы, Санкт-Петербурга и, конечно, Могилева, но лучше всего — физически и душевно — было у Феодосия. Благочинный был славный человек, добрый и гостеприимный, может, разве слишком молчаливый, но и преосвященный не любил сыпать словами. Он же, благочинный, выступал в роли банщика. Укладывал преосвященного на живот, делал на его спине веником три креста, а потом уж угощал хорошим паром. Попарившись и помывшись, они садились за стол, подолгу в тишине прихлебывали обжигающий чай. Матушка Анна заваривала чай с лесными травами, подавала маковые пряники с медом, пироги с яблоками или вишнями. Утолив первую жажду, снова отправлялись «допариваться». Вот тут-то и происходила главная экзекуция, на которую епископ соглашался покорно и молча. Благочинный выкладывал на его спине четыре дубовых веника и, пробормотав «прости, святой отец, прости Господи», угощал преосвященного такой водичкой, какую не выдержать, если б не плотные веники. А тогда уж, накинув на себя простыни, галопом на Святое озеро, если пора года оказывалась летней, а время суток темным. Озеро рядом, на краю города, доезжали за четверть часа.
Входили, оглядевшись, чтобы никто не заметил их за таким не грешным занятием, в нательных рубахах в теплую воду, молча наслаждались покоем и тишиной. Тишина здесь всегда стояла, как в первый день творения, а небо, звезды говорили о вечности и призывали к себе. Для верующего во Христа человека этот зов особенно внятен. Существовала легенда, что уже в христианские времена провалилась православная церковь по какой-то причине и на ее месте возникло хорошее озеро с чистой и мягкой водой. Поговаривали, что в праздничные дни, особенно на Святую Троицу, доносится колокольный звон из его глубин — однако услышать его может лишь безгрешный человек после причастия. Так это или не так, но и благочинный, и преосвященный нет-нет да и внимали: не послышится ли?
Однажды к ним присоединились предводитель дворянства Ждан-Пушкин, обер-комендант города Родионов, городничий Волк-Леванович. Пьяно шумели в бане, причем только обер-комендант вел себя пристойно, а Ждан-Пушкин стонал и охал, будто его стегали сыромятным кнутом, Волк-Леванович верещал, будто поднимали на дыбе. Ухали-охали за столом у матушки Анны, обжигаясь горячим чаем, потом понеслись на тройке к Святому озеру, плавали в темноте со смехом и воплями, наделали шума на все немалое озеро, а возможно, на весь город. Больше отец Феодосий не приглашал их.
Говорили преосвященный Георгий и благочинный Феодосий мало, однако обойти старую боль не могли: как противостоять кармелитам, иезуитам, униатам, которые тащат христиан в свои храмы? Только умной проповедью, проникновенной молитвой. Несчастье с настоятелем Тупичевского монастыря стало известно всему уезду. Как оказалась кстати эта печальная история мстиславским инославным, как подходяща для совращения православных!
Спал преосвященный в Мстиславле обычно спокойно и крепко. Но в этот раз не мог уснуть. Задремал лишь под утро, а проснулся — возчик уже запрягал коней. Позавтракали, матушка Анна, как всегда, положила щедрый узелок в кибитку — и в путь.
* * *
Путь предстоял дальний — в Костюковичи, где, по доношению, священник уличен в прелюбодеянии. Не столь уж редкий случай, хотя и наказывался этот любострастный порок всегда сурово. Год назад преосвященный лишил иеромонаха Спасского кафедрального монастыря Палладия и священства, и монашества.
Ехали, однако, не торопясь, останавливались во всех малых городах, местечках и селах, где имелись церкви: когда еще выпадет случай побывать здесь, да и людям поглядеть и послушать епископа — немалое событие, а православию поддержка.
При въезде, конечно, колокольного звона не было, поскольку не знали, что едет епископ, но поняв, кто приехал, звонили долго и радостно, и скоро у церквей собиралось много людей, приходили и католики, и униаты. В этой стороне Белоруссии православие пока преобладало, и прихожане не без гордости глядели и на епископа, и на инославных.
Приехали в Костюковичи поздно, было темно, а человек, которого спросили о гостевых номерах, даже не знал, что это означает.
— Где можно переночевать? — взялся объясниться с ним возчик Тимофей.
— А кто вы такие?
— А тебе что за дело?
— Есть дело. Если хорошие люди — одно, плохие — другое. Православные или униаты? А может, иезуиты?
— Православные. Епископ Могилевский Георгий.
Тот молча осваивал новость.
— Быть не может! — Но, подумав, поглядев на хороших лошадей и карету с православным крестом, видно, поверил. — Нет, ко мне нельзя. Тесно у меня.
— А к кому можно?
— Не знаю. У всех тесно. Тебя к себе возьму, а епископ пускай к батюшке православному едет.
— У него не тесно?
— Как не тесно? Пятеро деток и хозяйка больная, лежит который год. Показать, как ехать?
Так преосвященный оказался в доме священника Тарасия.
Дом был из двух комнат и кухни. Первая, передняя, была разделена тяжелой домотканой занавесью на столовую и кухню. Здесь же на грубой деревянной кровати спал старший, лет двенадцати, мальчик. У окна стоял довольно широкий обеденный стол с табуретками. На подоконнике глиняный горшок с цветами.
Священник был молод, лет тридцати пяти. Он смело открыл дверь, не спросив, кто и откуда столь поздний гость, провел в дом и по облачению тотчас догадался, кто перед ним и по какой причине. Тем не менее его все это не смутило, он помог преосвященному разоблачиться, разбудил мальчишку и перевел в другую комнату, освободив кровать для епископа. Однако спать им в эту ночь не пришлось.
— Знаешь ли, отец Тарасий, зачем я к тебе приехал?
— Знаю, ваше преосвященство, — твердо и решительно отозвался тот.
Быстро и привычно принес из сенцев кувшин, налил кружку молока, достал из комода четверть каравая хлеба.
— Не хлопочи, батюшка, — сказал епископ. — Лучше поговорим.
Разговор их затянулся почти до утра. Оказалось, Тарасий закончил духовную семинарию в Киеве, завел семью сразу после окончания, рукоположил его покойный епископ Иероним Волчанский в Костюковичский приход, поскольку здесь жили отец-мать. Жена родила пятерых ребят, но уже три года не встает с кровати, помогать ему приходит хорошая православная женщина, — вот и получилось, что согрешил, и женщина эта родила ему дочку, которая для него — свет в окошке.
Разговор был неторопливый, откровенный, спать не хотелось, и неожиданно для себя преосвященный рассказал о своих покойных уже родителях, о городе Нежине, где родился в небогатой шляхетской семье, об отце, сотенном уряднике Нежинского казачьего полка, а затем и бургомистре Нежина, о доброй матери. О том, как решил посвятить жизнь Богу, услышав рассказ матери об одном из своих пращуров старце Иове Конисском, совершившем подвиг иночества в Пустынно-Николаевском монастыре. И о собственном торжественном пострижении, которое совершил Киевский митрополит.
На рассвете кто-то постучал в окно комнаты, где они сидели. Тарасий вышел, и преосвященный услышал неразборчивые слова: «Батюшка… батюшка… скорей, батюшка…»
Оказалось, зовут в одну из деревень на соборование старика. «К заутрени не успею», — сказал Тарасий, прощаясь.
Утром пришла женщина убираться и кормить детей, Конисский понял, что это и есть помощница Тарасия. Она тоже догадалась, что гость духовного звания, неуверенно попросила благословить. Первым делом она вошла в большую комнату, где лежала хозяйка дома, взялась ее обихаживать. Послышались и голоса детей. Преосвященный переоблачился в простую ризу, набросил на плечи омофор, не открывая дверь, перекрестил семейников отца Тарасия и вышел.