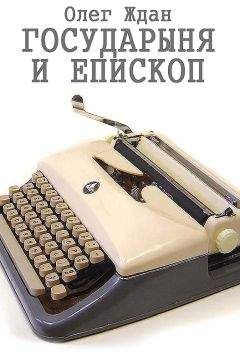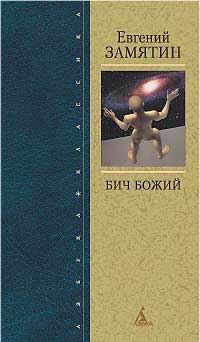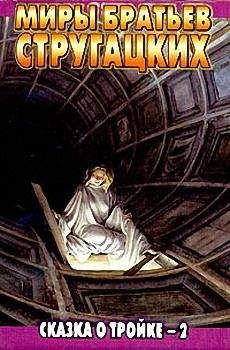В восемь утра у дворца началась суета: во-первых, возницы выстраивали в ряд кареты и просто рабочие сани с кибитками — четырнадцать и сто шестьдесят четыре, поругивались между собой, требуя места; во-вторых, опять стали собираться люди, и старые, и малые, чтобы еще раз взглянуть на императрицу, проститься с ней. Явились, конечно, и первые дамы города в лисьих, беличьих, песцовых шубах, прибежали девки Ждана-Пушкина, плясавшие и певшие вчера для императрицы. Впереди колонны вертелись на сытых нетерпеливых лошадях два скорохода. То были лошади Радкевича, и он с удовольствием и беспокойством поглядывал на них.
Простые мстиславские кони в сверкающей сбруе царских конюшен и подседельные лошади для форейторов выглядели хорошо. Появилась и стать, и осанка. «Бедные наши лошадки, — наверняка думали жители города, глядя на них. — Никогда больше вам не иметь таких праздничных одежд…» Кучеры и форейторы императорской тридцатки были очень важны, даже неприступны для местных мужиков и ребят. И в самом деле, не так просто подогнать упряжь, правильно, с равномерной нагрузкой на гужи запрячь цугом тридцать лошадей. Позади кортежа стояли кибитки, битком набитые веселыми местными мужиками, которым предстояло ехать до Новгород-Северска, а там забрать лошадей и вернуться в Мстиславль. Следующий этап путешествия обеспечит тамошний обер-комендант.
Немалое удивление у жителей вызвали два императорских арапа. Впрочем, именно в этом — удивлять простых людей — по-видимому, и состояла их роль: улыбались, демонстрируя крупные белые зубы, смешно таращили глаза, показывая белки.
Отъезд был назначен на девять утра, но до девяти оставались минуты, а императрица не выходила из дворца. Свита сопровождения знала, что Екатерина Алексеевна требует выезжать точно в назначенное время и всякое промедление портит ей настроение, — и встревожилась. Озабочены были и городские чиновники, и гости из Могилева. Оказалось, пользуясь всеобщей спешкой и суетой, к императрице, скорее всего, через кухню, прорвалась-таки известная в городе мещанка, соломенная вдова Кукуриха (муж сбежал сколько-то лет назад в белый свет от крикухи и ругательницы), рухнула на колени, заплакала-зарыдала и начала жаловаться на всех: на обер-коменданта, на городничего, на сбежавшего супруга, на предводителя, на капитан-исправника, и горько плакалась до тех пор, пока императрица не приказала дать ей немного денег. В одиночестве стоял губернатор Энгельгард, поглядывая на часы, — ему предстояло сопровождать императрицу до Новгород-Северского; не слишком близко друг к другу замерли три архиепископа, ну и неподалеку от входа-выхода из дворца толпилась свита, чтобы поприветствовать императрицу и отправиться к своим каретам. Еще и потому ждали, что знали: матушка не любит путешествовать в одиночку, карета у нее на восемь человек, имеется небольшой кабинет с библиотечкой, игорный стол, а попутчиков на каждый участок пути она приглашает сама. И это будет для кого-то очередной радостью, а для кого-то — разочарованием. Впрочем, иной раз, утомившись от досужих разговоров, она выставляла из кареты всех.
Отдельной группой стояли городские чиновники.
— Интересно, обратно государыня снова поедет через Мстиславль? — озабоченно пробормотал Радкевич.
Все заинтересованно посмотрели на обер-коменданта, поскольку он был ближе всех к губернатору, а губернатор — к императрице.
— Нет, насколько я знаю, обратно поедет другим путем, — ответил Родионов, и все тотчас повеселели. Оно и понятно, очень любим матушку-императрицу, но так много забот-хлопот вызвал ее приезд, да и расходов, что пусть она, любимая, едет иным путем. Надо же и другим людям повидать ее, подивиться, порадоваться.
И вдруг Родионов охнул и кинулся к Безбородко. Посуда! Императорская посуда осталась на столе. «Не волнуйтесь, — ответил Безбородко. — Это на память городу».
Но вот и появилась — в суконном кафтане на меху, со шнурами впереди, в высокой собольей шапке — императрица. Восхищенный ропот пронесся вдоль улицы. Минуту постояла на крыльце, позволяя себя рассмотреть и запомнить, и наконец шагнула к карете. Тут-то и грянули девки песню — так, что императрица заулыбалась и приостановилась на одну минуту, а принц де Линь вдруг сыпнул на них горсть золотых монет. С визгом кинулись девки поднимать их, смяли песню. Но тут снова зазвонили колокола, ударили обе пушки, взлетели ракетки. И это был самый счастливый момент: все закончилось благополучно. Все хлопоты и тревоги позади. Больше на нашей жизни не повторятся. Великое событие, но — больше не надо. Теперь будем вспоминать и рассказывать — детям, внукам, правнукам, но переживать такое еще раз — не хотим, не надо. Слишком велика честь.
Освободившись от обязанности опекать Безбородко, к Родионову подошел Энгельгард.
— Все хорошо, — шепнул он. — Государыня довольна.
А минуту спустя приблизилась Теодора. Судя по лицу, была она сильно взволнована.
— Молодец, — сказала она. — Я тебя люблю.
И тотчас исчезла. Походка у нее была легка, как у подростка. Разве может такая женщина любить его?
И Родионов подумал, что ни мнение сотен гостей, ни мнение губернатора, ни даже самой императрицы не так важно для него, как мнение этой маленькой женщины, его жены. И если счастье может иметь вид или звучание, то вот оно, только что мелькнуло перед ним.
18 января в 9 часов 15 минут, растянувшись на полверсты, императорский кортеж двинулся в сторону Кричева. Разъехались и почетные гости города: архиепископы, помощники губернатора, предводители дворянства губернии, заседатели Совестного суда, священники ближних и дальних приходов, торговые депутаты, старшины купеческих гильдий. Кто на почтовых, кто на собственных тройках.
И еще, говорили, один человек исчез из города в тот день: Ривка. Будто бы приезжал поглядеть на императрицу немец-розмысл, но не на почтовых, а в собственной двухлошадной кибитке, и увез Ривку. Но было ли это? Как тогда соединить два факта: осенью в Могилеве и Мстиславле состоялись две свадьбы, одна — на немецкой слободе, шумная, с песнями и плясками, другая в Мстиславле — на еврейской, тоже шумная, на весь город. Говорили, что очень красиво танцевали райген Луиза и Юрген, а хромоножка Ривка будто бы перетанцевала своего жениха Давида, столяра-краснодеревщика. Свадьбы и должны шуметь, оповещая, что создана еще одна семья, и быть ей, счастливой или несчастной, до конца дней.
Что касается кибитки — было и такое. Выехали за город, к реке Вихре, поплакали и простились. Возвратились к своим родным, к отцу-матери, братьям-сестрам, к своим песням-пляскам, к своей национальной жизни. Важнее этого и в самом деле ничего нет.
В середине лета пришла весть, что императрица благополучно добралась до Крыма, что губернатор Энгельгард забирает обер-коменданта Родионова в Могилев, предводитель дворянства Ждан-Пушкин вышел в отставку, получив звание статского советника с пенсионом 300 рублей, архиепископ Конисский при большом скоплении православных заложил на свои средства храм во имя Георгия Победоносца.
Мосты через Вихру простояли много лет, почивальный дворец служил памятником императрице, а когда исчез с лица земли — неизвестно, скорее всего, сгорел от удара молнии: страшные грозы били в те времена над Мстиславщиной.
Ну а предание о посещении императрицей Екатериной города живо до сих пор. Не забыто также имя Святителя земли Белорусской архиепископа Георгия Конисского.