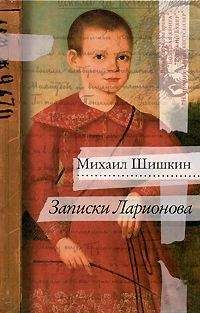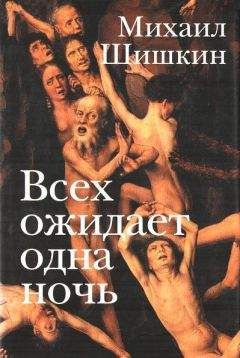– Господа! Вот он сказал мне что-то несуразное, – язык мой заплетался, я еле стоял на ногах, – будто бы вы сговорились напоить меня! Господа, ведь это же неправда? Скажите, ведь это неправда?
Я не помню, какую я нес потом околесицу. Кто-то из офицеров в сапогах на босу ногу, в шинели, наброшенной прямо на исподнее, хотел отвести меня в мою палатку, но я вырвался и стал кричать, что я никому не позволю себя оскорблять.
– Вот вы, – кричал я Богомолову, – вы хотите обидеть меня! А за что? Что я вам такого сделал?
Снова меня схватили за руку. Я стал драться, заехал кому-то по носу кулаком. Меня скрутили. Я визжал, кусался. Меня чуть не придушили подушкой.
Пробуждение мое было ужасным. Я очнулся на своей походной койке весь в собственной рвоте.
Что за счастье быть юношей! Я думал, что ничего кошмарнее этой минуты у меня в жизни уже не будет.
Я не знал, как смотреть в глаза моим новым товарищам, но они вели себя так, будто ничего особенного не произошло.
Квартировал я в маленьком флигельке у четы Бутышевых. Отец этого недалекого, но доброго человека выслужился из даточных и был капельмейстером. Видно, с детства у Бутышева осталась любовь к полковым оркестрам, и он, когда бывал пьян, начинал уверять всех, что наши полковые оркестры лучшие во всей Европе.
– Ну что, что они там могут? – горячился капитан и шмыгал своим рыхлым, как хлебный мякиш, носом. – У нас отбирают мальчиков лучших из лучших. Из тысячи, может, из десяти тысяч одного. Но этот один – талант! В шинельке, да Моцарт! А у немцев в музыканты нанимаются всякие проходимцы. Сами посудите, ведь что у них таланту делать в полковой музыке? Под Прейсиш-Эйлау мы целый день слушали австрияков. И что, разве это музыка? Тьфу, а не музыка! То ли дело наши! А почему? Да потому, что не за деньги играют, а за отечество! А у них? У них там даже чины не выслуживать, а покупать надо! Подумать только, я отечеству моему служу, а они со своим торгуются! Вот что хочешь со мной делай, а не понимаю!
Сам Бутышев играл на флейточке, которую бережно хранил в дорогом футляре. Сперва меня это даже развлекало. Но каждый вечер из-за стены доносились одни и те же три-четыре мелодии, и с каждым днем от этих концертов становилось все тошнее.
Жил Бутышев вдвоем с супругой, оба сына его служили где-то в кавалерии, дочь была замужем, тоже за военным. Капитанша была незаметной, бессловесной на людях женщиной, набожной и совершенно необразованной. Кажется, она не умела даже толком ни читать, ни писать. Однако это безобидное с виду существо было сущим домашним тираном, к тому же, как я скоро догадался, она сильно злоупотребляла водкой. Помню, как, в первый раз услышав за стеной крики, грохот падающих стульев, звон гибнущей посуды, я бросился к ним и стал барабанить в дверь. Шум прекратился, но открывать мне не стали. Я испугался, сам не знаю чего, и принялся со всей силы бить в дверь сапогом. На пороге вдруг появился Бутышев, растрепанный, пьяный, с расцарапанным лицом.
– Александр Львович, прошу вас, не обращайте внимания. Жене моей нездоровится. Вы идите себе с Богом, идите.
Я обругал сам себя, что лезу куда не просят, и пошел на свою половину.
Вскоре по прибытии в полк я был откомандирован для набора рекрутов в Нижегородскую губернию, в Кулебаки. Партионным командиром был назначен поручик Богомолов, тот самый, который так подло опоил меня в достопамятный вечер. Я думал, что после такого мы будем с ним вечными врагами, но он отнесся ко мне впоследствии весьма снисходительно и даже дружелюбно. Этот широкоплечий кудрявый красавец обладал недюжинной силой. Воткнув палец в дуло солдатского ружья, он мог поднять его и держать горизонтально. Солдаты его справедливо считались лучшими в полку во всем, что касалось выправки, маршировки и прочих плац-премудростей. Педагогических хитростей тут никаких не было. Не довольствуясь розгами и фельдфебельскими зуботычинами, Богомолов сам вколачивал своими кулачищами в солдат необходимые знания. Особенно сильно страдали несчастные мордовцы и прочие инородцы, которые по совершенному незнанию русского языка весьма туго поддавались обучению.
В полку много рассказывали о его отваге. В той командировке мне как раз представился случай убедиться в справедливости этих суждений. Надо сказать, что вообще сборы рекрутов – занятие не из приятных. Только у конченого мерзавца и негодяя не дрогнет сердце при виде того, как матери, отцы, возлюбленные прощаются с этими молодыми людьми, обреченными, иначе не скажешь, на службу отечеству. Наша команда находила этих несчастных юношей запертыми в амбарах, уже под стражей. Местное начальство боялось, что рекруты сделают что-нибудь над собой до передачи их в полк. Тем не менее случаи членовредительства случались. В избе у одного деревенского старосты лежал в сенях на ворохе соломы изможденный, посиневший юноша, почти мальчик. Он хотел отрубить себе палец, но бил левой рукой, неловко, и перебил себе кисть. При нас его отправили на телеге под конвоем в Кулебаки, где должен был состояться суд. В основном же в солдаты шли безропотно, кто в молчании, кто с озорной песней, но все напивались так, что рекрутов приходилось выносить и складывать на телеги мертвецки пьяных. На сборном пункте несчастных ждали протрезвление и простая и страшная процедура превращения человека в солдата. Пьяный лекарь вызывает к себе по одному из толпы голых, белых, с красными ногами и руками людей, которые испуганно жмутся друг к другу, смотрит каждому в рот, в промежность, ставит в меру, кричит:
– Два аршина, четыре вершка и пять осьмых!
Потом раздается короткий приказ:
– Лоб! – и обреченного ведут брить к огромному детине, который без конца харкает на пол и ходит босыми ногами по горе волос.
Уже в последний день один из рекрутов сошел с ума, выхватил у солдата-ротозея тесак и стал бегать в беспамятстве по улице. Собственного брата, который хотел его успокоить, он пырнул с размаха в живот. Спятившего рекрута хотели пристрелить, но Богомолов хладнокровно подошел к нему, увернулся от тесака и кулаком свалил парня с ног. Когда я подбежал, рекрута уже связали, а Богомолов смахивал пыль с панталон.
– Зачем вы это сделали? – спросил я. – Ведь он мог зарезать вас!
Богомолов рассмеялся.
– Коли бы спросил себя – зачем, так и не сделал бы.
Этот человек становился мне все интересней, и на обратном пути, поджидая как-то партию в придорожном трактире, мы разговорились.
– Богомолов, вас считают лучшим офицером в полку. Но вы же бьете солдат. Это свинство. Это же унижает человеческое достоинство, ваше, мое.
Он посмотрел на меня удивленно.
– Вы благородный, неглупый человек, – продолжал я. – Вам должно быть совестно бить людей.
– Милый Ларионов, – услышал я в ответ, – вы правы. Более того, я разделяю ваши убеждения, что путем внушения, а не наказания приличнее всего вести солдата к осознанию своего долга. Но нужно еще, чтобы и солдаты разделяли ваши убеждения. А у нас ведь в России как – не вы побьете вашего слугу, так он побьет вас.
– Неужели человеческое достоинство зависит от местонахождения на ландкарте?
Он снова засмеялся.
– А вы докажите обратное. Вам, Ларионов, дают солдат, так начните с ними говорить на «вы», откажитесь от битья, организуйте школу, и посмотрим, что из этого получится.
Я вспылил и стал доказывать, что именно так все и должно быть в армии и что я берусь показать на собственном примере, что уважение к человеческой личности даст результаты, которые и не снились розгам.
– Вот и чудно, – сказал Богомолов. – Держу пари, что не пройдет и трех месяцев, как вы прикажете всыпать кому-нибудь палок, пусть и на «вы».
В полк я вернулся одержимым. Мне дали солдат, и я принялся за дело со всей горячностью молодости.
Первым делом я отменил телесные наказания и стал говорить «вы» каждому рядовому. Солдаты, все хмурые, бессловесные, доведенные по уставу предыдущими командирами до состояния скотской тупости, смотрели на меня исподлобья, с недоверием, ожидали какого-то подвоха.
Я с жаром принялся за их образование. Начались уроки чтения и письма. Я взялся также читать им лекции по римской истории из Роллена, пересказывая перевод Тредиаковского. Все мои нововведения солдаты воспринимали молча, с привычной покорностью, как и все, что им приказывали делать. С историей еще куда ни шло – рассказы про Сципиона, Гракхов, Брута они слушали как сказки про Бову Королевича. Труднее было с письмом и арифметикой. Мои занятия они воспринимали лишь как дополнительное мучение после нескольких часов муштры и выводили закорючки без всякого прилежания.
Вечерами я присаживался к их костру, проводил долгие беседы о пользе образования, рассказывал им о свободолюбивых героях древности, о чудесах западной цивилизации, достигнутых за счет уважения к личности, о том, как устроена североамериканская республика, и о многом, многом другом, что, как мне казалось, должно было возбудить в этих забитых людях хоть какие-то проблески чувства собственного достоинства. Солдаты слушали меня молча и только трясли над огнем свои рубахи, из которых сыпались в пламя с легким потрескиванием вши.