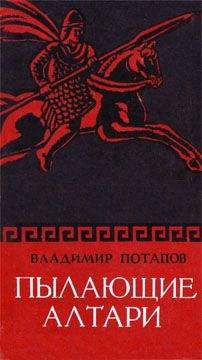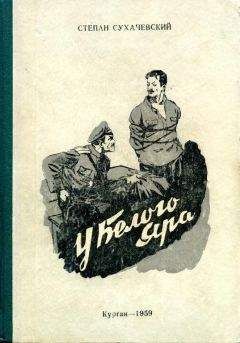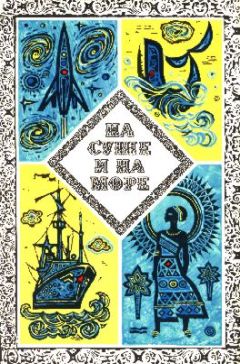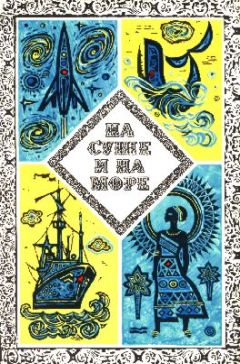И еще одно повергало Диона в ярость: люди — его сограждане! — так спокойно взирали сквозь щели в дверях и с крыш домов на расправу. Только теперь, у башни Славы, стало ему понятно, почему толпа, когда пресбевт утром следующего дня въехал в город со стороны пристани, поднесла ему лавровую ветвь в знак покорности. И горько от этого становилось на душе мятежного эллинарха. Он свободы хотел своей родине, он хотел величия родному городу, а получил взамен черную неблагодарность своих соотечественников, которые лижут теперь туфлю царского спальника.
Диона пока не трогали. Он по-прежнему считался эллинархом — руководителем всех эллинов в Танаисе и стратегом граждан. Но что бы все это значило? Или постельничий царя решил разыграть великодушие? Или боится трогать лицо, облеченное доверием народа?
* * *
Звон цепей, повисший над площадью, ударами молота отдается в мозгу Диона. Это гонят через агору рабов. Спины их согнуты, блестят от пота, головы опущены, черные бороды наполовину закрывают грудь. Разбитые ноги осторожно ступают по горячему ракушечнику мостовой. Несчастных ведут к триреме, чтобы навечно приковать к борту. Их ждет изнурительный труд гребцов на военном корабле, пока в каком-нибудь сражении его не сожгут или не пустят ко дну.
Дион видит в колонне юношу с темными волосами и скуластым лицом, с крутым подбородком и начавшими пробиваться усами. Он идет легко, свободно, кажется, что цепи не гнетут его. Голова чуть откинута назад, взгляд устремлен к дому эллинарха. Грудь Диона разрывает внезапная боль, в горле застревает неродившийся крик. По площади только что провели его сына Аполлония.
Но горе отца не выплеснулось в проклятии врагам или в молитве богу. Суровому воину не пристало стенать и рвать на себе волосы, подобно слабой женщине. И рука, потянувшаяся было к мечу, остановилась на полпути. Могуч и всесокрущающ славный «Дар Арея». Не одного варвара лишил он головы. Не одну победу добыл с его помощью Дион во главе эллинского войска. Но сейчас нет войска у стратега. Нет верных друзей, которые стали бы рядом, плечом к плечу, и помогли вернуть Аполлонию свободу. Обнажать меч против целого отряда лучников безрассудно. Это означало бы верную смерть. А не ее искал Дион себе и сыну.
Аполлоний продан в рабство. Но разве не рабскую участь уготовил боспорский царь его согражданам, танаитам? Разве они меньше нуждаются в свободе, хотя сами и не сознают этого, неразумные? Кто, как не он, их стратег и эллинарх, возвратит былую славу и величие Танаису и доведет до конца то, что задумано им и выстрадано?
Около Диона остановились два воина-лучника из боспорского гарнизона. В руках они держали железные резцы.
— Смотри-ка, — потешаясь, сказал один другому, — этот болван думает, что башня рухнет ему на голову, если он не подопрет ее спиной. Таких глупцов я еще не видывал, разрази меня Геракл!
Эллинарх не раз водил этих воинов в битвы, делил с ними тяготы походной жизни. Но теперь они почувствовали, что его власть над ними кончилась, и решили поиздеваться над ним.
Дион молчал, сжимая под плащом рукоять меча. С минуту лучники смотрели на него ничего не выражающими глазами. Им было скучно от жары и однообразия жизни в городе, чужом для них. Потом, вспомнив о приказе пресбевта, они бесцеремонно оттолкнули эллинарха от башни и принялись стесывать со стены всадника-меота в развевающейся хламиде и следующую ниже надпись:
«С добрым счастьем, эллины!..»
Прошло несколько дней. Пресбевту Антимаху Харитону, крепкому румяному человеку со сластолюбивыми губами и женской фигурой, доверенные люди докладывали о каждом шаге Диона. Он казался им обезумевшим. И наместник царя щадил пока человека, бывшего главой и душой заговора. Он упивался чувством мести: огонь безумия — достойная плата за содеянное и, кроме того, живой упрек нераскаявшимся.
Но безумным бывший эллинарх казался только своим врагам. Тяжкий удар судьбы он принял согнувшись, но не сломившись совсем. Ни потеря сына, ни гибель друзей не заставили его отказаться от идеи Великого объединения, посчитать ее неправильной. Но он пришел к выводу, что своим необдуманным вмешательством в божественное провидение только навлек гнев небожителей на своих близких, на родной город.
По трезвом размышлении Дион решил отдаться в руки народа: пусть он рассудит, прав ли был его стратег…
Ночь застала Диона за городом, на пустыре. Он отстегнул от пояса ножны и вытащил меч. Прощаясь навеки с боевым другом, поцеловал узкое холодное лезвие — «Дар Арея», немой свидетель небывалого взлета эллинарха и… его падения.
Когда-то давно, будучи еще только лохагом конницы танаитов, Дион возвращался из далекого похода. До родного города оставался один дневной переход, и отряд всадников остановился на ночлег в степи. В полночь Дион вышел из палатки. Лагерь спал. Только у сторожевых костров переговаривались часовые. И вдруг словно огненный меч рассек темное небо, степь вокруг озарилась мрачным красным светом, от тяжкого грохота содрогнулась земля. Недалеко от лагеря, за холмами, поднялось зарево. Перепуганные воины высыпали из палаток, бормоча молитвы. Никто не осмелился идти за холмы.
Наутро Дион сам отправился туда. На обуглившейся земле лежал оплавленный камень. Дион привез его в город и показал жрецу храма Артемиды Таврополы. Старый жрец долго рассматривал тяжелый камень, потом сказал:
— Найди хорошего оружейника и закажи меч. Это сокровище послал тебе могучий Арей. Знатного воина увидел он в тебе.
Прославленный боспорский оружейник сделал из небесного камня острый меч. Отделанный благородными металлами, он ярко сверкал на солнце. Меч привел Диона в восхищение. Он долго любовался им, пробовал силу удара, пока вдруг не заметил выгравированную надпись:
Того не победить, кто в руки взял сей меч!
Но где же тот храбрец, достойный им владеть?
Это была явная насмешка надменного боспорца над танаитами.
— Почему же? Такой храбрец есть, — сказал Дион и ударом меча развалил оружейника надвое.
Этим поступком Дион подкупил сердца сограждан. На следующий год они избрали его своим стратегом.
Царь не стал преследовать Диона за убийство оружейника. Танаисский стратег отделался штрафом. Таких людей, как Дион, лучше иметь у себя на службе, чем делать из них врагов.
Меч получил имя «Дар Арея».
…Дион кинжалом выкопал ямку под кустиком джантака[30] и схоронил в ней свой меч.
— Покойся здесь вечно, друг, ибо нет на земле благородных рук, достойных владеть тобой!
На рассвете Дион через потайную дверь в стене вернулся в город, побывал дома. Нарядившись, как на праздник, он отправился, к дому диадоха. Рабы-христиане впустили его во внутренний дворик, и он явился прямо в покои своего бывшего помощника. Едва Дион дотронулся до плеча спящего Агесилая, тот соскочил с ложа. Словно ожидал прихода эллинарха. Перепуганный насмерть, он спросил побелевшими губами:
— Ты пришел рассчитаться со мной? Ведь я изменник в твоем понятии.
— Да, ты предатель, но я пришел не за этим.
— Я не мог изменить царю, которому присягал вместе с тобой.
— Ты предал родной город и дело, которое доверили тебе твои товарищи. Ты предал идею. Но не я буду твоим судьей. Я пришел, чтобы ты арестовал меня.
— Я мог это сделать раньше, но не трогал тебя. Давал возможность покинуть город, уйти к сарматам.
Теперь голос Агесилая окреп. Он увидел, что опасность ему не угрожает.
— Я не нуждаюсь в твоих благодеяниях. Возьми меня под стражу!
— Надеешься на милость пресбевта?
— Нет. Я отдаю себя в руки народного собрания..
Агесилай долго не мог понять, чего же добивается от него Дион.
— Все, затеянное мною, делалось для народа, ради его свободы. Пусть народ и судит меня…
Только теперь вспомнил Агесилай о старинном обычае, нарушить который не решались даже цари. Согласно этому обычаю преступник мог отдаться народному собранию, и тогда его жизнь или смерть зависели от настроения народа.
Уразумев до конца все, что хотел от него Дион, Агесилай позвал рабов и приказал им связать эллинарха…
* * *
Когда день уже набрал полную силу, весь народ сошелся на агору. Пресбевт на всякий случай выставил перед храмом усиленный наряд лучников и копейщиков.
В пурпуровой одежде, в сверкающих медными украшениями сандалиях, с бронзовым обручем на голове, поддерживающим тронутые сединой волосы, бывший эллинарх выглядел величественно, как изваяние. Глубокими глазами, чуть затуманенными скорбью, смотрел он на женоподобного правителя, кутавшегося в гиматий, на диадоха с трусливыми глазками, на сомкнутые ряды телохранителей, на сдержанно шумевшую толпу. Там, среди множества знакомых лиц, он иногда замечал кого-нибудь из «усыновленных Богом Внемлющим», ставших потом христианами. Но стоило тому встретиться взглядом с Дионом, как тотчас же «верный брат» смущенно отводил взор: извини, мол, эллинарх, сейчас нам не до фиаса, — и Диону становилось горько от сознания, что не на крепкой основе возводилось здание свободы и независимости танаитов, сильно ошибся он во многих — на поверку они оказались недостойными великой миссии, которой некогда покровительствовал речной бог Танаис, а затем новый бог — Единый.