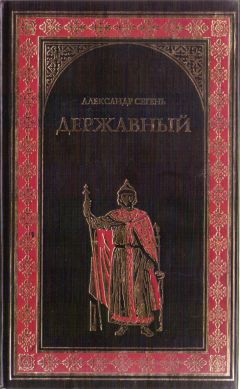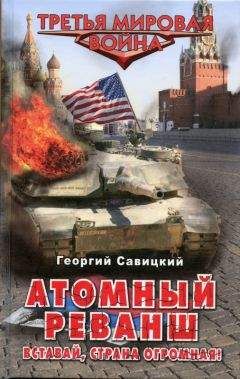Нахмуринка тотчас улетучилась с лица Ивана Васильевича, лицо разгладилось, расплылось в благодушной улыбке.
— Благодарю тебя, отче Геннадию, за добрые словеса, — ответил государь Чудовскому игумену. — Все мы премного постарались для нашей победы. А братья мои, Андрей с Борисом, даже поспешили вдогонку за Ахматом, бить его по загривку, вот до чего лихие вояки!
Все дружно рассмеялись на эти слова великого князя.
— Не будем же сейчас лить славословия, — продолжил свою речь государь, — оставим их на завтра, ибо, ежели теперь всё расточим, что же на весёлом пиру говорить станем, поднимая преисполненные чаши? Верно?
— Ве-е-ерно, — согласились собравшиеся.
— Завтрашний день, — продолжал Иван Васильевич, — я объявляю первым днём нашего самодержавия, ибо сами отныне будем в державе нашей хозяева, кончилась власть ордынская!
— Каково подгадал-то! — рассмеялся Геннадий.
— Что подгадал? — как бы не понимая, о чём речь, вскинул брови государь.
— Так ведь завтра же Иванов день очередной, — пояснил Геннадий, и все зашевелились, хмыкая и крякая. — Завтра — Ивана Милостивого, патриарха Александрийского.
— А также и Нила постника, — тихо добавил странник Нил.
— А послезавтра что? — ещё громче воскликнул Геннадий. — Послезавтра-то и вовсе Иоанна Златоустого, в честь коего государь наш при крещении наименован был. А? Каков наш великий князь!
Тут государь не выдержал и от души весело расхохотался. Потом промолвил:
— Хотел, хотел я и до послезавтра дотянуть, до дня Златоуста зимнего, да уж гонец прискакал с сообщением, что последние отряды татар ушли сегодня утром с Угры и весь берег с сегодняшнего утра чист. Так что… К тому же завтра воскресный день, двенадцатое ноября, а Златоуст выпадает на понедельник и тринадцатое.
— Так ты что ж думаешь, государь, мы только завтра за победу пить будем, а послезавтра бросим? — рассмеялся Иван Ощера.
— Всю неделю гулять! — заревел Григорий Мамон. — Отменяйте, святые отцы, и среду, и пятницу!
— Только бы вам грешить да не поститься! — хмуро, но с глазами, полными любви, проворчал Троицкий игумен Паисий.
— Насчёт среды и пятницы пусть за вас государь на себя грех берёт, — сказал Геннадий. — Он ведь у нас теперь державный.
— Беру грехи! — с хохотом махнул рукой государь.
Снежный сугроб, а не пена, — вот до чего ж пиво тут пенистое делают боровские пивовары. А само золотистое; когда в чашу наливают — так и горит золотом. И не грузное, пьёшь и лишь веселее, живее становишься. Пир на весь мир! Прогнали Ахмата, прогнали! Сегодня государь объявил первый день самодержавия нашего, и вот мы пируем на славу, каких только напитков нету, какими только яствами не уставлены столы. Вкуснее всех напитков — пиво местное, а самое диковинное блюдо — огромное заливное в виде застывшей Угры.
Вот государь берёт чашу, приподнимается, хочет слово молвить, но не может встать, падает назад в трон свой, роняет чашу из окостеневшей руки… Что такое? Не потому ли, что ему поросёнка подали, а пост только завтра кончается?..
С этой мыслью князь Данила Васильевич рванул себя за ворот исподней сорочицы и вскочил, пробуждаясь.
— Ох ты, Господи! — молвил он, испуганно озираясь по сторонам. Ликующий сон всё ещё стоял в княжеской опочивальне, медленно растворяясь, как пивная пена. В углу под образами мерцали лампады. Данила Васильевич подошёл, перекрестился, глубоко вздохнул и усмехнулся, с нежностью вспоминая приснившийся боровский пир, давний-предавний-давнишний. Сколько уж лет минуло с тех пор, как прогнали с берегов Угры последнего золотоордынского хана? И не сосчитаешь! Хотя, конечно, сосчитать можно — в будущем году двадцать пять лет исполнится. Целую четверть века унесли волны Угры в Оку, волны Оки — в Волгу, волжские волны — в море, а морские — на край света.
— Встал уже? — раздался голос жены. — А я как раз шла сказать тебе, что пора просыпаться. Как спалось перед Рождеством? Что во сне привиделось? Сказывают, сочевные сны сбываются…
— Кой год ты всё, матушка, твердишь одно и то же, — проворчал князь Патрикеев-Щеня своей супруге. — Хоть один сон сбылся, у тебя хотя бы?
— Многие сбылись, Данюшко, — махнула рукой жена.
— Не знаю… — пожал плечами Данила Васильевич. — Вот как ты прикажешь таковому сну сбыться? Привиделось мне, будто я сижу на пиру в Боровске в тот день, когда прогнали с Угры татар и Державный огласил не зависеть нам от Орды. И всё так вживе приснилось, столь явственно, что до сих пор вкус боровского пива во рту держится. И будто Державному поросёнка подали, а нельзя, пост, и его от поросёнка скрутило в точности како он ныне скручен кондрашкою. Только ведь пост-то — сейчас, а тогда, в Боровске, никакого поста не было, середина ноямбрия-месяца. Вот те и сон. Как такому сбыться?
— Это сон прошложизненный, — ответила жена-княгиня. — Просто на память, да и всё. Пиво пил — пировать, значит, будешь. А поросёнок — просить о чём-то государя.
— Который час-то? — спросил князь, не желая дольше говорить о сновидениях.
— Да уж стемнело. Вот-вот — звезда. Одевайся, лицо сполосни, да идём сочевничать. — Она поцеловала мужа в усы и ушла. Данила Васильевич с любовью проводил её взглядом. Сзади нисколько не изменилась жёнушка, стан всё такой же прямой и стройный, только спереди её, бедную, распёрло от многих родов — грудь, живот. Хотя — Щеня вздохнул — многие в её годы и при стольких же детишках уберегают плоть свою от расползания. Взять, к примеру, Булгакову Наталью. Или Ольгу Салтыкову. По-прежнему стройны.
А всё ж милей моей нету! Вот поцеловала в усы, так до сих пор тёпленький запах её в усах держится. Вместе с запахом боровского пива из сна.
Усы у Данилы Васильевича всё такие же, как двадцать пять лет назад были, — густые, пышные. Разве что почти совсем седые стали. Умывшись, он старательно расчесал их костяной вусенкой, и в новой, осенью пошитой ферязи, нарочно дожидавшейся праздника, отправился сочевничать.
В столовой светлице было прохладно, сладко пахло кукушачьим льном, трое младших сыновей князя и две дочери стояли в ожидании родителя, а увидев его, поклонились. Двое старших сынов жили уже своими домами, да и не было их теперь на Москве, далече исполняли государеву службу, самый старший аж в самой Колывани[159] встречал нынешнее Рождество, ведя там переговоры с магистром Ливонского ордена Вальтером фон Плеттенбергом.
Тотчас появилась и княгиня, тоже в обновке — поверх бархатного платья было пристёгнуто новое ожерелье, расшитое золотом, саженное жемчугами, так и сверкает, перемигиваясь с блеском глаз хозяйки дома:
— Ну всё, звезда! Можно начинать.
Помолившись, сели за стол, принялись есть сочиво из сарацинского пшена[160], сваренного в ореховом молоке с кукушачьим льном.
— Вкусно, — похвалил князь Данила Васильевич.
— Поешь хорошенько, до разговления ого как далеко стоять придётся, почитай, всю ночь, — ответила княгиня. Помолчала и вдруг ни с того ни с сего брякнула: — Что-то у нас, Данюшко, все ложки деревянные да деревянные. Даже Кропоткины, вона, серебром едят. А у главного воеводы, гляньте, дерево!
— Потому что я люблю дерево, — отвечал невозмутимо князь. — На дереве куда как вкуснее. А что это — серебро, али железо себе в рот пихать, ровно ты лошадь!
— Придумаешь тоже, — фыркнула княгиня. — Никакая не лошадь, а человек. Деревянную шевырку еле в рот запихиваешь, не сравнить с серебряной — ровнёхонько в уста вкладывается, не надобно разевать зевло. Да и богаче на серебре-то ясти, по достоинству нам.
— Право, батюшко, матушка верно сказывает, — поддакнул княгине один из сыновей, тринадцатилетний Фёдор.
— Никакой тут нет правды, — воспротивился Данила Васильевич. — Слава не в серебряных ложках. Так-то! Слыхали ль вы, детушки, как древлий князь Владимир про ложки своим отвечал дружинникам? Вижу, что не слыхали. Послушайте. Они его точно так же стали корить — мол, коли ты нас на службу к себе берёшь, то и чтобы мы у тебя только серебряными ложками ястие вкушали. А он отвечал им: «Ступайте от меня прочь такие! Серебром да золотом хорошую дружину не купишь себе. Зато с хорошей дружиной я и серебро, и золото раздобуду». Понятно?
— Поня-а-а-а… — прогудели, насупившись, дети.
Данила Васильевич поглядел ласково в лицо жены. Та усмехнулась, морщинка у неё на лбу разгладилась. Видать, смирилась она с деревянными ложками. Да и как не смириться, ежели, коль подумать, это такой распустячный пустяк по сравнению с многими богатствами, добытыми большим государевым воеводою в многочисленных победоносных походах. И дом у Щени один из самых на Москве знаменитых. Красивый дом, огромный. Хоть и не в Кремле. В Кремле тесновато стало, не развернёшься. Поставишь дом, он всеми глазами в очи да стены другим домам глядеть будет. Вот и воздвиг Данила Васильевич жилище своё пять лет тому назад за пределами московской крепости, на самом краю Пожара, неподалёку от также недавно построенной Собакиной башни[161]. Вся Москва по-новому жить начинала, устремляясь из тесноты Кремля в разросшиеся посады, и первым среди высшей знати отстроился вне кремлёвских стен главный воевода.