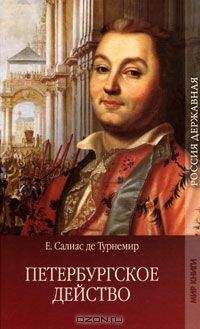— Государь приказалъ… Завтра будетъ указъ всѣмъ высшимъ чинамъ гвардіи, даже фельдмаршаламъ, быть въ строю и бывать на всѣхъ экзерциціяхъ и во всѣхъ караулахъ. Всѣмъ отъ послѣдняго сержанта до генерала.
— Что-о?! воскликнули всѣ въ разъ.
— Да. Ѣду вотъ къ Никитѣ Юрьевичу съ указомъ, лично привести сейчасъ на плацъ преображенцевъ.
— Стараго филина, подѣломъ. A гетмана жаль, сказалъ Ласунскій.
— Трубецкаго? Разумѣется, не жаль!
— Да онъ съ тѣхъ поръ, что генералъ-прокуроромъ, шпаги въ руки не бралъ! воскликнулъ кто-то.
— Вспомнитъ небось, какъ подъ ружье поставятъ! воскликнулъ, смѣясь, Перфильевъ.
— Вотъ тебѣ бабушка и Юрьевъ день! захохоталъ Алексѣй Орловъ. Фельдмаршаловъ да генералъ-прокуроровъ будутъ скоро навѣсти ставить!
— Разумѣется, коли укажутъ! сказалъ сухо Перфильевъ, отъѣзжая отъ молодежи.
Въ кучкѣ офицеровъ наступило гробовое молчаніе… Нѣкоторые переглядывались.
— A видѣли лицо гетмана? Бѣлѣе скатерти! тихо сказалъ Пассекъ.
— Да, у него теперь на душѣ кипитъ.
Алексѣй Орловъ наклонился къ брату и шепнулъ ему на ухо:
— A гетманъ-то нашъ теперь! А?!
— Пожалуй, что и такъ! отвѣчалъ Григорій вслухъ и, увидя на крыльцѣ своего дома Теплова, подошелъ съ вопросомъ:
— Ну что, Григорій Николаевичъ, графы теперь поподатливѣе будутъ?
— Вѣстимо! отвѣчалъ весело Тепловъ. — Это еще лучше моего ареста.
Въ тотъ же вечеръ всѣ три брата Орловы, взявъ съ собой и молоденькаго кадета Владиміра, а съ ними Ласунскій, Пассекъ и Талызинъ весело пообѣдали въ трактирѣ и уже вечеромъ вышли на улицу.
Майская ночь была великолѣпна: тихая, теплая и ясная. Полная луна на небѣ свѣтила такъ ярко, что на дворѣ было свѣтло, какъ днемъ. Всѣмъ поневолѣ захотѣлось пройтись пѣшкомъ и они отправились бъ берегу Невы, по направленію ко дворцу принца Жоржа.
Талызинъ, флотскій офицеръ, обожавшій море, предложилъ воспользоваться чудной ночью и затишьемъ и прокатиться въ лодкѣ.
Всѣ единодушно согласились, только одинъ Григорій Орловъ сталъ отказываться, чувствуя страшную усталость. Онъ отсутствовалъ всю ночь изъ дому, вернулся со свиданія только въ шесть часовъ утра. Этого никто не зналъ и не видалъ, кромѣ стараго Агаѳона, который его каждый разъ упрямо дожидался одѣтый и съ фонаремъ на столѣ. Теперь онъ чувствовалъ себя усталымъ на столько, что уже мечталъ только объ одномъ — очутиться въ постели.
— Нѣтъ! воскликнулъ Алексѣй. — Ужь ѣхать, такъ всѣмъ ѣхать! И ты ступай! A коли разберетъ сонъ, ложись въ лодкѣ и спи.
— Что жъ съ вами дѣлать! Поѣдемъ….
Вся компанія направилась вдоль набережной по направленію пристани, помѣщавшейся противъ мыса Васильевскаго острова. Здѣсь всегда бывали рыбаки и всякія лодки.
Талызинъ, какъ знатокъ, выбралъ самую большую лодку. Всѣ вошли, разсѣлись и взялись за весла.
Алексѣй Орловъ сѣлъ переднимъ гребцомъ и взялъ два огромныхъ весла. Талызинъ сѣлъ къ рулю. Только Григорій отказался грести на отрѣзъ, умостился за братомъ на самомъ носу лодки и, подложивъ себѣ подъ голову снятый Алексѣемъ мундиръ, тотчасъ улегся…
И лодка стрѣлой понеслась внизъ по теченію, благодаря бойкимъ взмахамъ гребцовъ и силѣ быстраго теченія. Въ десять минутъ лодка была уже на взморьѣ. И сразу развернулось предъ ними, будто обхватило ихъ въ огромныя объятья, просторное, спокойное и необозримое лоно водъ, перерѣзанное пополамъ лунной сверкающей полосой. Будто серебряная, но зыбкая и обманчивая дорога — по ровному, по темному и невѣдомому царству! Будто символъ жизни нашей!
Талызинъ, сидѣвшій лицомъ къ великому простору, глянувшему вдругъ на нихъ среди ночи и затишья, не выдержалъ:
— Стой! вскрикнулъ онъ. — Убирай весла! Всѣ повиновались.
— Поворачивай голову! смѣясь, скомандовалъ онъ. — Гляди, а чувствуй. Гдѣ лучше? У васъ или у насъ? Въ казармѣ или на кораблѣ?
Всѣ обернулись и никто не сказалъ ни слова. Всѣ залюбовались тихимъ таинственнымъ просторомъ водъ. И на всѣхъ повѣяло чѣмъ-то чуднымъ, новымъ, чего нѣтъ въ городѣ, нѣтъ въ полѣ….
— Гриша, сказалъ наконецъ Алексѣй, — гляди, что за диво? Знаете, ребята… Чудно! Просто хоть молиться. Гриша!
— Отстань! А молиться хочешь, такъ и меня помяни, а я спать хочу, промычалъ тотъ въ отвѣтъ.
— Ну, матросы, за весла! скомандовалъ Талызинъ. — Мы еще съ полверсты двинемъ въ море, а тамъ назадъ.
И лодка снова понеслась по гладкой, незыблемой поверхности. Только весла, всплескивая соду, нарушали общій сонъ и затишье, и будто серебромъ посыпало по бокамъ лодки, да серебристый слѣдъ вился за ней, какъ хвостъ и, расходясь въ обѣ стороны, страшно разростался, но все-таки пропадалъ и умиралъ въ безбрежномъ и живомъ просторѣ.
Гребцы, налегая усердно на весла, молчали; всякій думалъ свою думу, сознавая, что ставитъ судьбу свою на карту….
Григорій Орловъ тоже, скорчившись и согнувшись на двѣ лодки, думалъ свою думу. Онъ думалъ о томъ, какъ много перемѣнъ совершилось за послѣднее время. Онъ вспоминалъ двадцать четвертое апрѣля, которое теперь на всю жизнь останется у него запечатлѣннымъ на сердцѣ. Онъ почти не шутилъ, когда говорилъ старому Ѳошкѣ, что закажетъ мраморную доску, вырѣжетъ на ней это число и будетъ поклоны класть.
«И для Фридриха — это число важное! Трактатъ мирный его сочиненія одобренъ…»
Затѣмъ, думая о послѣднихъ дняхъ, мысль его поневолѣ сосредоточилась на Тепловѣ. Человѣкъ этотъ, присоединившись къ ихъ кружку, повидимому, долженъ былъ совершенно все круто видоизмѣнить и къ лучшему.
«Это дѣйствительно заправила нашъ, думалъ Григорій Орловъ, и дѣйствительно я кладъ нашелъ. Только одно мучитъ душу. Ну, вдругъ, не побоясь угрозы нашей, одумается онъ, оробѣетъ, пойдетъ за прощеніемъ къ государю и въ доказательство раскаянія назоветъ всѣхъ по именамъ. И все дѣло пойдетъ прахомъ! И всѣ мы будемъ… Богъ вѣсть гдѣ!»
Долго думалъ объ этомъ Орловъ, припоминая малѣйшее слово, малѣйшее движеніе, даже оттѣнокъ голоса новаго члена кружка, самаго старшаго, самаго вліятельнаго…
Но вдругъ среди тьмы зажглись огоньки и фонари улицъ петербургскихъ. Среди темной ночи, какимъ-то зловѣщимъ, краснымъ свѣтомъ сверкаютъ эти огоньки. Въ аду, вѣрно этакой вотъ, огонь неугасаемый. Лодка, сильно покачиваясь на волнахъ, быстро двигается по узкой темной рѣкѣ.
«Какъ Нева узка! думаетъ онъ. А, говорятъ, самая широкая на свѣтѣ. Куда! Висла и та шире гораздо».
Лодка все двигалась и, наконецъ, съ маху уперлась къ берегъ.
Григорій выходитъ съ братьями на берегъ и въ ту же минуту среди темноты нѣсколько военныхъ подходятъ съ нимъ.
— Вы — Орловы?
— Мы, говоритъ Алексѣй.
— Вы арестованы.
— За что? воскликнулъ тотъ.
— Тамъ узнаете… Идите.
Не прошло нѣсколькихъ мгновеній, какъ всѣ три брата и товарищи уже на гауптвахтѣ. Они стоятъ передъ зеленымъ столомъ, за которымъ сидятъ Нарышкинъ и Гудовичъ, замѣнившіе тайную канцелярію.
Дѣло простое. Тепловъ всѣхъ выдалъ. Передъ Гудовичемъ лежитъ длинный списокъ, во главѣ котораго стоятъ имена трехъ братьевъ Орловыхъ.
Въ сосѣдней комнатѣ слышенъ гулъ и шумъ; туда свозятъ всѣхъ арестованныхъ товарищей.
Григорій ясно слышитъ голосъ Шванвича, который божится и клянется всѣми святыми, что онъ никогда у господъ Орловыхъ не бывалъ, что онъ ихъ только бивалъ.
— Бывалъ! Бивалъ! восклицаетъ кто-то и хохочетъ весело.
И въ какомъ-то круговоротѣ Григорій съ полусловъ и намековъ узнаетъ отъ Гудовича, что государыня арестована на время на Смольномъ дворѣ. Не далѣе какъ завтра, она будетъ отвезена въ Шлиссельбургъ и заключена на вѣки.
Гудовичъ и Нарышкинъ начинаютъ подробный допросъ братьевъ, какъ главныхъ участниковъ. Григорій отвѣчаетъ истину, но братъ Алексѣй вдругъ хватаетъ его за руку.
— Гриша, нечего по пусту языкомъ болтать! восклицаетъ онъ. — Что тутъ сказывать, дѣло простое, они сами лучше насъ все знаютъ. Виноваты кругомъ, ну и руби головы! Дѣло такое, и святое и грѣшное, и правое и виноватое! Или панъ, или пропалъ. Та же чехарда! Не сѣлъ на-конь, стань конь! Я больше ни слова! Хоть пытай, хоть на дыбу тяни!
И черезъ минуту Григорій уже въ отдѣльной каморкѣ, гдѣ стоитъ только одна кровать, даже безъ матраца. Окошко рѣшетчатое. И въ это окно проливается слабый свѣтъ не то отъ фонаря, не то отъ луны. И въ этой каморкѣ такъ же тихо, какъ въ гробу. Только мышь въ углу грызетъ гнилую доску. Да вѣдь и это, поди, въ гробу бываетъ; вѣдь есть земляныя мыши, которыя прокладываютъ дорожку къ зарытому покойнику.
«Я всѣхъ погубилъ! Я этого Искаріота, хохлацкаго наперсника раздобылъ. И всѣхъ перебрали. Никто даже не останется цѣлъ, чтобы ему, по крайней мѣрѣ, горло перерѣзать. A она? Что она? Проклинаетъ его!»
И подъ наплывомъ горя и отчаянія Григорій забылъ о каморкѣ. Кто-то взялъ его за руку.