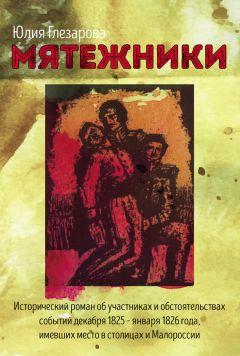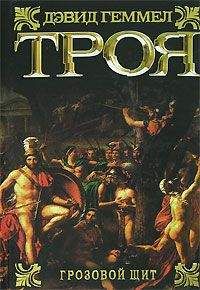– Потерпи, скоро уже, – проговорил Сергей с той же интонацией, как давеча Мишелю.
– Прости меня… Я жил как умел…
– И ты меня…
Сергей обернулся спиною, взглядом приглашая Поля сделать то же самое. Выворачивая из суставов скрученные руки, он коснулся ими рук Поля – и на голову ему набросили холщовый капюшон. Руки палача оторвали его от Поля, поставили прямо. Потом он почувствовал веревку на своей шее, услышал хруст деревянного настила под собою – и полетел в яму под эшафотом…
Минуты забытья пролетели быстро. Сергей очнулся и увидел себя лежащим на земле, перепачканным грязью и кровью. Над собою он слышал возбужденные голоса, крики, мольбы о помощи, грубую ругань. Чей-то голос закричал истошно:
– Пошлите гонца к государю! Сорвавшихся миловать надобно!.. Божья воля!
– Веревки гнилые! Воры, канальи! Я государю обязан доложить об успешном окончании экзекуции!.. Вешайте снова!
– В любой другой стране их бы помиловали!
– В любой другой стране, генерал, их бы повесили с первого раза!
– Не надо миловать… – сказал Сергей, неотрывно глядя на виселицу. – Миша умер.
И снова потерял сознание. Второй раз его втащили на эшафот уже бесчувственного.
Матвей плохо помнил, что происходило с ним в тот день. Смутные обрывки воспоминаний носились в голове его: сначала вывели из камеры куда-то за крепость, затем читали приговор, поставили на колени и полицейский чиновник переломил над головою шпагу. Рядом мелькали лица друзей, знакомых, родственников… Впрочем, лица Матвей различал с трудом. Все мысли его были о брате.
Матвей знал, что Сережа приговорен к смерти. Но знал он – а об этом ему вчера еще сказал священник, отец Петр Мысловский – что государь не хочет казни, что выйдет помилование и каторга. Матвей ждал и надеялся, даже тогда, когда увидел на кронверке виселицу и разум подсказал ему, что, в сущности, надеяться больше не на что.
Под вечер в камеру его вошел Мысловский. Смущаясь и пряча глаза, произнес тихо:
– Брат ваш казнен, Матвей Иванович… Сегодня, на рассвете, вместе с другом его, Бестужевым. Перед смертью он писал вам.
Мысловский положил на стол несколько исписанных листов.
«Любезный друг и брат Матюша! …Пробегая умом прошедшие мои заблуждения, я с ужасом вспоминаю наклонность твою к самоубийству, с ужасом вспоминаю, что я никогда не восставал против нее, как обязан был сие сделать по своему убеждению, а еще и увеличивал оную разговорами. О, как бы я дорого дал теперь, чтобы богопротивные слова сии не исходили никогда с уст моих! Милый друг Матюша! …Христос сам говорит нам, что в доме Отца небесного много обителей. Мы должны верить твердо, что душа, бежавшая со своего места прежде времени, ей уготовленного, получит низшую обитель. Ужасаюсь от сей мысли. Вообрази себе, что мать наша, любившая нас так нежно на земле, теперь на небеси чистый ангел света лишится навеки принять тебя в свои объятия. Нет, милый Матюша, самоубийство есть всегда преступление. Кому дано много, множайше взыщется от него…Я кончаю это письмо, обнимая тебя заочно с той пламенной любовью, которая никогда не иссякала в груди моей… До сладостного свидания!»
Матвей Муравьев-Апостол
– Что касается до сочинения графа Толстого, Сережа, то мне решительно не понравилась его «Война и мiр». На мой взгляд, графу не удалось правдоподобно показать наше время. Его герои – это, скорее, люди 60-х годов, они суетны и слишком много думают о себе, а мы о себе не думали… Не потому, что были такими уж добродетельными – дух времени был таков, чуждый всякой корысти и эгоизма… И война там показана неверно, все было совсем не так – уж я-то помню! Конечно, это грандиозный труд, и я уверен, что роман будут читать и через сто лет после смерти графа, но то-то и обидно! Отныне и навсегда начало девятнадцатого столетия останется в памяти читающей публики как время всех этих безуховых, болконских, ростовых…
Я понимаю, что цензура не пропустила бы правдивый роман о нас, и поэтому граф взялся за войну с Бонапартом, но все-таки, по моему мнению, он мог бы точнее изобразить героев и характеры. Зачем тогда было мучить меня, зачем нужно было перечитать столько наших мемуаров, убеждать всех, что вот-вот на свет явится великое творение, в котором будет запечатлена величайшая трагедия нашей жизни?! Растравил граф душу, и ничем ее не успокоил… Я в обиде на него…
– Ты всегда на кого-то в обиде, Матюша.
– Я старик. Мне нельзя не брюзжать и не обижаться. Я так надеялся на то, что литературный талант графа явит миру минувшее. Хотелось прочитать про всех нас, и про тебя тоже… Он так долго меня о тебе расспрашивал, что я уж, грешным делом, решил, что он хочет сделать тебя главным героем…
– Так и скажи, что разочарован тем, что граф о нас не написал.
– Может быть, и так. Но только я все равно не могу понять, зачем ему понадобилась вся эта суета – расспросы, разговоры… Ведь до слез доводил, прямо в душу лез – а так ничего и не сочинил… Нет, нет, не спорь со мной: граф наш должник и не будет ему покоя, пока он не воплотит свой замысел…
– Ну а как не воплотит?
– Тогда потомки наши скажут, что хорош был писатель, а о главном так и не написал. Что ты смеешься? Думаешь, что всяк кулик свое болото хвалит? Нет, Серж, чем дольше я живу, тем больше убеждаюсь, что дело наше было наиважнейшим пунктом новейшей истории, повлиявшим на все, что происходило и происходит в нашем несчастном Отечестве…
Мелкий обложной дождь прогнал с Тверского нянек с детьми и разодетых дам. Пушкин склонил над бульваром курчавую, блестящую свежей бронзой голову. Июльская зелень, казалось, радовалась нежаркому дождливому дню.
Старик шел осторожно, стараясь не наступать в пузырящиеся лужи и мелкие ручейки, бегущие по песчаной дорожке бульвара. Он слегка хромал. Несмотря на согнутую возрастом спину, в нем еще заметна была военная выправка. В правой руке старик нес раскрытый зонт, держа его весьма странно – немного выше, чем того требовал его невысокий рост, и чуть на отлете, словно рядом с ним шагал кто-то, невидимый постороннему взгляду.
Однако у старика все-таки был собеседник. Рядом с ним по Тверскому бульвару шел молодой человек, в армейском пехотном мундире по форме 20-х годов, с пристегнутой наградной шпагой и щегольских сапогах, ловко сидящих на чуть искривленных, как у кавалериста, ногах. Ладная его фигура была, пожалуй, широковата в плечах, штаб-офицерские эполеты увеличивали эту диспропорцию, да и вообще мундир не очень шел к его умному и печальному лицу. Однако подстрижен незнакомец был сообразно военной моде тех же 20-х, и офицерская фуражка сидела на нем безукоризненно – хоть сейчас на парад! Темные, зачесанные на виски волосы, слегка вились – видимо, безо всяких расходов на куафера. В облике офицера было что-то, указывающее на то, что он не так уж заботится о своей внешности и вообще мало думает, какое впечатление производит на людей. Впрочем, его так и так никто и не видел, кроме старика.
Старик, держа черный зонт всего на вершок повыше офицерской фуражки молодого человека, продолжал разговор:
– Теперь, когда можно стало, о тебе все чаще вспоминают ныне, и в печати тоже. Только больно мне читать это… тем более, что господа сочинители допускают ошибки и неточности. Вообрази, некий господин Баллас решился написать твою биографию. В начале своей статьи он даже благодарит меня за содействие, между тем, он ни разу со мною не разговаривал, даже не счел нужным познакомиться. Верно, он решил, что я разделяю его взгляды и оценки, признаю подлинность выставленных им фактов… Но даже год твоего рождения он указал неверно…
– Да кто я таков, чтобы биографии мои писать? Среди наших многие были умнее меня и храбрее… Я хуже многих.
– Не в этом дело. Граф Толстой считает, что историей человечества движет Бог, я же всегда считал, что все, что происходит на земле – это наших рук дело, история зависит от личного выбора каждого… От твоего личного выбора тоже многое зависело, ты, в отличие от меня, историческая личность…
– Я? – молодой человек присвистнул весело. – Да какая я историческая личность? Я просто любил – вот и все. А ты, вместо того, чтобы на других ворчать, написал бы сам. Так, как было на самом деле…
Старик усмехнулся.
– Ты шутишь, Сережа. Ты должен остаться в истории благородным и отважным рыцарем, душою болевшим за свое несчастное Отечество. Человеком, у которого не было другой любви, кроме любви к Отечеству.
– Но я вовсе не был таким. Я самый обыкновенный человек. Ты же знаешь…
– Может быть, ты и прав – о сем судить не мне. Но каждая эпоха нуждается в своих героях, ныне время, когда нужны рыцари. Если говорить правду – меня не поймут, скажут, что я клевещу и на тебя, и на наше время. Да и к тому же… есть вещи… о которых до сих пор… больно… вспоминать…