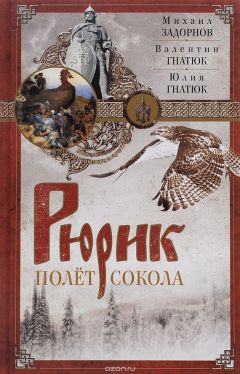Но Мирослав ничего этого не видел. Откинувшись на своём жёстком ложе, он глядел перед собой, но зрел не сумрак мельницы, а волшебную пляску синеокой Русалки.
* * *
Утром на землю явились Мороз-Батюшка с Зимой-Боярыней. А Стрибог-зимний повелел своим ветрам пригнать тучи снежные и укрыть поля и леса сугробами, дабы каждый зверь в норку мог спрятаться и всякий корешок, кусты и деревья зимовали под тёплым пологом, дожидаясь весёлого Яра.
Стали ветры дуть крепко, и пошла гулять над землёй Метелица. А Мороз грянул и спаял землю в железные обручи, как умелый бондарь крепкую бочку, чтобы она держалась, храня под снегом свои семена, и спала крепким сном, набираясь сил. А новым летом пробудилась бы щедрородной и дала колосья тучные, цветы, злаки и травы всяческие.
А Зима-Боярыня-Матушка села в широкие розвальни и помчалась-поехала по всей Руси от заимки до заимки, от града до града, возвещая о приближении Колядиных дней.
Купцы погнали на Торжище овнов, коров и волов, огнищане повезли зерно, сало, кожи, мёд и воск. Люди продавали и покупали приглянувшийся товар. И на Торжище Киевском слепили Зиму-Боярыню, высокую и дородную. Очи ей из угольев сделали, нос из морковки, а уста из бурячка красного. А в руку ей дали лук со стрелами, чтобы охота была удачная, а у ног насыпали зерна-жита всякого, прося о грядущем урожае. И в каждом дворе дети и взрослые катали из снега Зиму Красную, наряжали её лентами да мочалами и старались других перещеголять.
А в Свят-вечер Колядин молодцы ходили по улицам, закликали Нов-год, катали с пригорков коло горящее о двенадцати спицах и носили в руках звезду, украшенную лентами и птичьими перьями.
А рано на Заре красны девицы выходили во двор, приветствовать божича Коляду новорождённого, богов зимних – Сивого и Белеса с Крышним, и сыпали им зерно, и раздавали орехи и пряники, чтобы те боги хранили людей и всю землю Русскую.
И шёл народ на Требище, приносил жертвы. И вкушали в тот день пшённые молочные каши, и лапшу жирную с поросятиной или гусятиной. Хозяйки пекли медовики и маковики, делали пироги высокие, жарили сало с капустой и колбасу чесночную киевскую, пили брагу хмельную и заедали блинами жирными с солёной белорыбицей, сметаной и маслом топлёным. Варили узвары из сухих яблок, груш, слив и вишен. А вечером шли кататься на замёрзшую Непру.
Зима ехала по Руси и одаривала людей лещинными орехами, хвалила послушных детей и давала им леденцы медвяные и орехи большие грецкие. И ехала в лес еловый, развешивала на ветках гостинцы. А дети утром шли искать Ель Боярскую, которая вся была увешана сластями, орехами золочёными, яблоками и грушами сушёными – угощение добрым людям в любовь и радость.
Скорняк Комель, выйдя утром во двор, первым делом прочистил широкой деревянной лопатой дорожки, раскидав снежные сугробы. «Обильный снег – к щедрому урожаю, да и в Колядины дни радость, особенно детям», – подумал он. Управляясь по хозяйству, глядел, как разгоралась поздняя зимняя заря. Насыпав зерна курам и покормив пса, пошёл чистить у коровы. Когда вышел, уже совсем рассвело. Вспомнив, что вчера знакомый купец спрашивал за выделанные куны, решил показать ему несколько шкурок для образца, – авось сделает крупный заказ!
Комель как раз выходил со двора, когда увидел Молотилиху. Та шла по улице и о чём-то оживлённо рассказывала, размахивая руками и улыбаясь. Он сначала подумал, что соседка не одна, но никого рядом с ней не было.
Вот женщина приблизилась, и скорняк увидел, что Молотилиха одета по-праздничному нарядно – в новый кожух, расшитый бусинами, и тёмную плахту с красными цветами по низу. Только голова оставалась непокрытой, и седые космы волос не были убраны по-женски, а рассыпаны по плечам.
– Здравствуй, Комель, – поздоровалась она приветливо, но как-то мимоходом, продолжая о чем-то говорить сама себе.
– Здравствуй… Ганна… – растерянно проговорил скорняк, поражённый внезапной переменой облика соседки.
После того как похоронили Овсену с Мечиславушкой, Молотилиха враз почернела лицом и поседела от страшного горя. Не в состоянии перенести муку, хотела наложить на себя руки, да соседки всё время были рядом, приглядывали. Потом Молотилиха замкнулась, перестала с кем бы то ни было разговаривать, только сидела, покачиваясь и глядя в одну точку. Если давали есть – ела, не давали – ей было всё равно. Всего седмицу назад Комель забегал к ней и видел её всё в том же состоянии, похожую на тень. Соседи доили корову, управлялись по хозяйству, кормили кур и гусей, и только пёс, чуя, что в доме произошло несчастье, отказывался от еды. Комель отвязал его, и недавний страж двора, двигаясь как-то боком и глядя странным, совсем не собачьим взглядом, затрусил прочь.
И вдруг Комель видит Молотилиху нарядной и весёлой, она идёт по улице как ни в чём не бывало, только лицо горит каким-то лихорадочным румянцем да очи блестят нездоровым блеском.
– Ганна… ты куда… идёшь? – запинаясь, спросил Комель.
– Куда иду? Как же, Овсена с Мечиславушкой на Колядские святки приехать должны, разве ты не знаешь? Я пирогов напекла, творог сделала, Мечиславушка его так любит! Он такой потешный, уже разговаривает, зовёт меня «ба-ба», «ба-ба».
Молотилиха опять заулыбалась и пошла дальше, размахивая руками и рассказывая, как приедут к ней дочь с внуком и что ей ещё много надо сделать: в доме прибраться, полы вымыть, столешницу выскоблить добела, Мечиславушке новую сорочку пошить да непременно с узорами!
У Комеля разом похолодело в груди и пересохло во рту. Он понял, что Ганна тронулась разумом.
Спустя некоторое время заметили, что Молотилиха потеряла не всю память, а только ту, что была связана с самым страшным – смертью дочки и внука. Как вести хозяйство и прочие домашние дела, она не забыла, просто перешла в состояние ожидания и постоянно готовилась к встрече дорогих гостей. Напевая, она прибиралась в хате и во дворе, без конца пекла пироги, которые соседи тайком забирали и несли нищим, потому что больше никто не хотел их есть – кусок не лез в горло.
При встрече с Молотилихой люди невольно отводили взгляд, но она не замечала этого, приветливо здоровалась и, вся погружённая в заботы, шла по улице, что-то непрестанно бормоча и рассказывая. Изредка кто-то из людей привлекал её внимание, и тогда она могла ответить или спросить, но тут же возвращалась в себя и, спохватившись, торопилась по неотложному, как ей казалось, делу.
Горе не забрало Молотилиху в Навь, смерть лишь крепко приголубила её в своих объятиях. И те объятия принесли ей марево забытья. Подобно тому, как замерзающий человек в последние мгновения вдруг перестаёт ощущать холод и погружается в состояние покоя и сонливого блаженства.
Знак Мары касается его чела.
Наступает волшебный сон.
Глава 11
По земле булангарской
Стремилась Святославова конница по земле булангарской, и дымы вставали за ней до самых небес. Те веси и грады, которые шли под руку княжескую и не противились, дружина не трогала, а непокорных поручала славянскому Огнебогу. Тот вздымался пламенем и жадно прибирал всё к рукам, источая едкие дым и гарь и далеко в ночи играя отблесками пожарищ.
Перед выступлением в поход на Волжскую Булгарию, волхвы многое поведали Святославу о сей земле. Он знал не только, где и что тут расположено, какие реки, озёра и леса, но обычаи и нравы булгар, а потому ведал, как с ними поступать следует, чтобы лепше всего привести к подчинению. Ведал Святослав и о главных градах булгарских, когда и как они возникли. Потому стремился к Бюлляр-граду, что лежит на стыке трёх булангарских земель. Именно там издревле собирались для принятия важных решений их племенные князья-беи и знатные вельможи-баилы. И туда стекалась со всех булгарских земель-бейликов несметная конница под водительством самого Бека.
Русская дружина шла на Бюлляр-град прямым путём. На четвёртый день, выйдя из леса, тьмы пошли по булангарским небольшим градам и весям, в каждом из которых сидел малый князь, и все они лаялись промеж собой и рекли Святославу свои споры. Тот отвечал, что скоро поставит здесь тиунов русских и они все споры решат.
Объявив привал, князь повелел вызвать к нему дозорного воеводу Болеслава.
– Надобно мне знать, кто с полуночи на булгар страху нагнал, пусть вои твои попытают беженцев, – рёк Святослав, расхаживая взад и вперёд. – А ещё непременно проверить надлежит про главные силы булангарские, стоят ли они в самом деле под Бюлляр-градом, а коли ушли, то куда. – Помолчав немного, добавил: – К вечеру жду доклад полный, ступай! – отпустил Святослав дозорного воеводу. Затем вызвал посыльного и велел: – Дружине отдыхать, – и с особым нажимом изрёк: – Пока стоим, птиц в небе никаких не бить, ни единой, всё!
Посыльный, бросив привычное «Добре, княже, быть исполнену», тут же удалился. Оставшись один, Святослав достал из перемётной сумы небольшой деревянный ларчик и, бережно вынув из него соколиное перо, спрятал его в рукаве овчинного тулупа. Велев охоронцам оставаться на месте и ждать его, князь, кликнув верного стременного, пошёл с ним к заснеженным зарослям лесной малины. Здесь князь сбросил на снег тулуп, поднял над собой соколиное перо и зашептал заклятие. Он повторял и повторял какие-то слова, пока не побледнел, и, вытянувшись, будто в его тело вогнали железный стержень, рухнул на расстеленный тулуп. Стременной поглядел ввысь и узрел, как прямо над ними очерчивает круги белый сокол. Могучая птица сделала ещё несколько кругов и исчезла в сероватом зимнем небе. Безжизненное тело князя лежало навзничь на тулупе, но стременной не подходил к нему и не трогал, ведал, что того нельзя делать, пока душа князя летает над заснеженными просторами белым соколом. Много времени прошло в томительном ожидании, зорко следил юный стременной за тем, чтобы никто не потревожил покой княжеского тела, а когда увидел наконец гордую птицу над собой, что вновь стала чертить в небе круги обережные, то возрадовался. Белый сокол опустился осторожно на толстую сосновую ветку, склонил гордую голову набок и прикрыл глаза, странно опустив, будто от сильной усталости, крылья. Лежавшее на земле тело князя дёрнулось, по нему пробежала судорожная волна, потом стали подёргиваться руки и ноги, а ещё через несколько мгновений он открыл глаза. Святослав сел на тулупе, потирая лицо и виски, слегка понадавливал на глаза, а потом на несколько мгновений прикрыл их раскрытыми ладонями. Встав на ноги, он подошёл ещё не совсем твёрдым шагом к птице, что продолжала сидеть на той же сосновой ветви, и, низко поклонившись, изрёк: