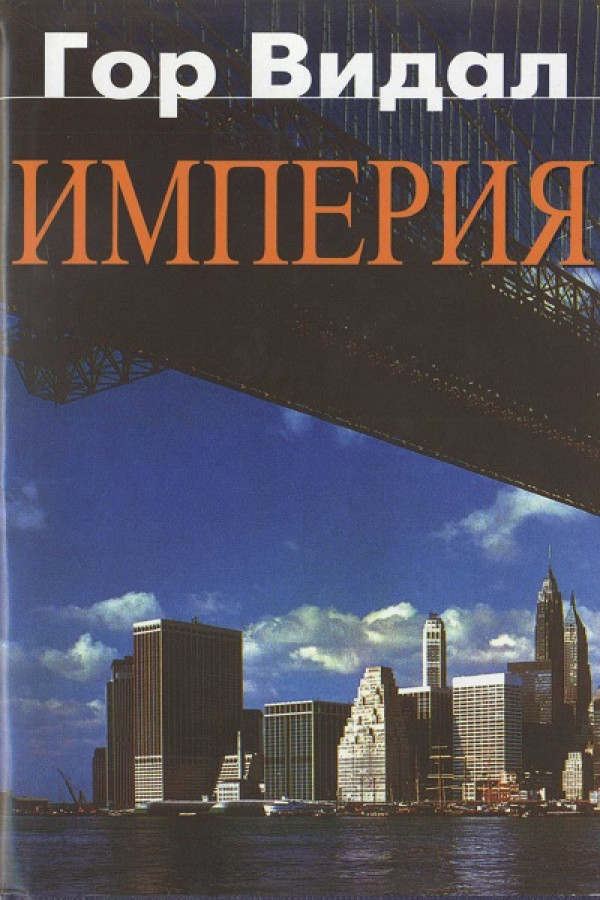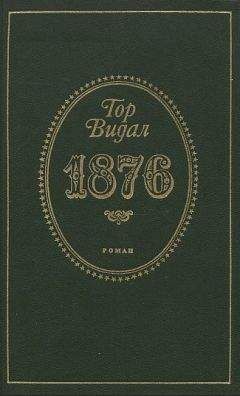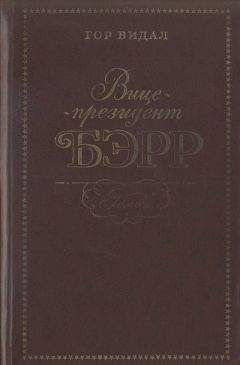судья должен предстать перед сенатом, и я, как его председатель, должен буду его судить.
— Вам, полковник, выпал жребий провести процесс, который определит будущее нашей демократии.
— Я, конечно же, буду беспристрастен…
— Конечно. Но, надеюсь, вы с пристрастием будете отстаивать самый принцип, ибо дело не в судье Чейзе, а в необходимости подчинить судей законодательным органам. Надо создать прецедент, и судей можно будет смещать волей народа.
— Но конституция…
— По всей вероятности, в нее следует внести поправки. Сейчас надо установить приоритет законодательной власти над судебной.
— Чтобы в случае необходимости иметь возможность избавиться от верховного судьи.
В этом-то и было все дело.
— Все, конечно, зависит от поведения мистера Маршалла в будущем. — Мягкий голос баюкал. — Думаю, если мы сместим судью Чейза, мистер Маршалл поймет, что с нами шутки плохи, и, следовательно, изменит свое поведение. Я убедился, порой достаточно предостереженья.
Я доставил Джефферсону удовольствие думать, будто мне по душе его так называемый принцип. На самом деле я всегда предпочитал, чтобы правовые органы были независимы от двух других властей; и хотя пожизненная должность часто укрывает неспособных, у нее есть одно бесспорное достоинство — что единственно разумный суд в стране недосягаем для мести главы государства и гнева толпы.
В течение трех месяцев, пока готовился процесс, я видел Джефферсона чаще, чем за все предыдущие четыре года. Мы обедали вместе по крайней мере два раза в неделю. Мы часто встречались тайно. Он давал мне массу советов, как вести себя на процессе. Он немного боялся за Джона Рэндольфа из Роанока, который должен был выступать от обвинения…
— Бедный Рэндольф сам не свой… — Джефферсон был явно смущен. Рэндольф расстроился из-за неудачных земельных спекуляций и оттого не в лучшей форме.
— Позволю себе заметить, что и в своей лучшей форме он вряд ли был бы нам особенно полезен на этом процессе. — Меня всегда забавлял Рэндольф, странный, долговязый, развинченный человек неопределенного пола. Некоторые считали его переодетой женщиной. У него даже не пробивалась борода; кожа — жирная, в причудливых морщинах; разговаривая, он вечно двигал длинными красивыми пальцами, а голос у него был высокий и чистый, как у мальчика из хора. Прислонившись к колонне в зале сената, в охотничьем костюме, потягивая бренди, которое подносил ему раб, он говорил часами, завораживая всех своим сарказмом и остроумием, которому не знала равного история республики. Его выступления напоминали частные беседы его кузена Джефферсона, но, если Джефферсон тускло мерцал в узком кругу заумными открытиями и теориями, Джон Рэндольф ослеплял широкую публику, как фейерверк. Кстати, он очень гордился тем, что происходит якобы от индейской княжны Покахонтас.
Судью Чейза вызвали 2 января 1805 года в сенат, где я в точности воспроизвел обстановку Вестминстера во время суда над Уорреном Хастингсом [85]. Я считал, что декорация должна быть внушительной — ведь нам предстояло решать судьбы республики. Стены завесили темно-красной камкой, а справа и слева от меня в ряд, как судьи, сидели сенаторы. Я пристроил еще галерею для именитых гостей. Я даже приказал прочистить дымоходы в двух каминах, и впервые зал обогревался без дыма.
Перед самым появлением судьи Чейза я приказал убрать приготовленное для него кресло.
— Пусть сам поищет себе место, — очень четко сказал я распорядителю. Несколько сенаторов-федералистов ответили на мои слова неодобрительными выкриками.
Появился судья Чейз, высокий, властный, разгневанный. Он подписывал Декларацию независимости. Его назначил в Верховный суд сам Джордж Вашингтон. После Маршалла он был самый блестящий и самый придирчивый из всех судей в стране. Однажды он вынес знаменитое определение, где четко сформулировал тот самый принцип, который Джефферсон хотел отменить: «Существуют неписаные, неотъемлемые ограничения законодательной власти». И себя и определение это он принимал всерьез.
Судья Чейз огляделся. Затем спросил:
— Я должен стоять, сэр?
— Принесите обвиняемому стул, он не желает стоять.
Потом я сказал одному сенатору-федералисту, что в палате лордов обвиняемый всегда стоял перед судом на коленях. Мое пояснение встретили в штыки, как я и ожидал: федералисты теперь уже не сомневались, что я изо всех сил поддерживаю Джефферсона. Он и сам так думал.
Судья Чейз попросил дополнительного времени для подготовки дела. Я велел ему повторно явиться в сенат 4 февраля.
Джефферсон был в восторге.
— Они уже обороняются. Вы вели себя молодцом.
— Благодарю вас, сэр. — И я выразил желание, чтобы мой пасынок Дж. Б. Прево стал членом Верховного суда Нового Орлеана, чтобы мой шурин Джеймс Браун стал министром по делам территории Луизиана и чтобы генерал Джеймс Уилкинсон стал губернатором территории Луизиана.
— И это все? — Джефферсон пытался за иронией скрыть изумление. Он не привык к открытой торговле.
— Если бы вы могли назначить меня губернатором Орлеана вместо Клерборна, я был бы вполне счастлив. Но думаю, это невозможно.
Джефферсон посмотрел мне прямо в глаза, что с ним случалось весьма редко. Нас разделял новый вариант знаменитой копировальной машины.
— Мне не хотелось бы объединять военную и гражданскую власть…
— Генерал Уилкинсон самый гражданский из всех генералов, каких я знаю, а я знаю его очень давно. Он будет на месте в Сент-Луисе.
— Вам самому ничего не нужно?
— Нет, сэр.
— Куда вы направитесь, когда… окончится срок вашей службы?
— На Запад. Возможно, в Кентукки. У меня там земля.
— Вы не вернетесь в Нью-Йорк?
— Вряд ли. К тому же меня уже ничто там не ждет. Сейчас, — добавил я благоразумно. Я предполагал, что ему известно то, о чем знали все. Ричмонд-хилл и все, что там находилось, было подавно продано с аукциона в уплату долгов. Мне разрешили оставить лишь содержимое винных погребов и библиотеку.
Потом Джефферсон утверждал, будто я тогда просил у него пост в правительстве, а он мне отказал. Ложь, удивительная даже в его устах! Я ничего для себя не просил, ибо мне ничего не было нужно (или так мне казалось). Джефферсон великолепно разбирался в политике и в купле-продаже; умел он и создать видимость, будто он не мелочен. Без промедления он отдал мне все три должности, чтобы я помог ему уничтожить судью Чейза и Верховный суд. Я принял от него взятку, а затем, как сообщала недружественная мне газета, провел процесс с «достоинством и беспристрастностью ангела, но с жестокостью дьявола».
Как я и предполагал, Джон Рэндольф ужасно подвел обвинение. Права он совершенно не знал, а обычная его язвительность была неуместна, по крайней мере с моей точки зрения, а ведь я сидел в председательском кресле. В конце концов он совершенно провалился и обвинительную речь произносил заикаясь, со вздохами и стонами. В заключение он поздравил