Жуков присел на край стула, слегка отхлебнул из чашки чай, сильно обжег губы. К печенью не притронулся. Не хотелось оставаться в кабинете ни единой минуты, хотелось на фронт, в пекло боя. «Обойдетесь без меня? — мысленно повторил он обидные слова Сталина.— Это мы еще посмотрим! Припрет — не обойдетесь!»
— Что, не понравился наш чай? — пытаясь свести весь разговор к шутке и заметив недопитую чашку у Жукова, спросил Сталин,— Мне тоже не понравился. Товарищ Берия у нас большой мастер втирать очки. Он всерьез уверен, что товарищ Сталин не способен отличить настоящий грузинский чай от того суррогата, который поставляет нам ведомство товарища Микояна. Что ж, коль вы солидарны со мной, товарищ Жуков, я вас больше не задерживаю.
Едва дверь кабинета захлопнулась за Жуковым, Берия вкрадчиво, но с неподдельным возмущением обронил:
— Какой гордец! Подумаешь, возомнил себя великим полководцем! Да таких у нас хоть отбавляй!
Сталин посмотрел на него, как смотрят на человека, сморозившего явную глупость.
— Такими, как Жуков, разбрасываться нельзя,— убежденно сказал он.— Такие, как Жуков, нам еще пригодятся. И ты, Лаврентий, как это часто с тобой бывает, бухнул в лужу.
Берия побагровел. Маленков и Мехлис захохотали.
— Беда состоит в том,— Сталин, видимо, решил сгладить явную грубость,— что такие, как Жуков, нужны тогда, когда государству угрожает опасность, иными словами, во время войны. После окончания войны такие, как Жуков, становятся опасны.
— Исключительно точная мысль,— тут же ввернул Маленков.
— Мысль, исходящая из законов диалектики,— поспешил добавить Мехлис.
— С этим Жуковым у нас еще будет морока,— угрюмо заключил Берия, ослепительно сверкнув стеклами пенсне.
Все, кто хорошо знал Берия, поражались его точности и пунктуальности, доходящей до почти немецкого педантизма. Ознакомившись с письмом Ларисы и прекрасно понимая, что Сталин, с его поистине фантастической памятью, непременно поинтересуется, выполнено ли его указание насчет того, чтобы дать ей возможность искупить свою вину на фронте, Берия сразу же предпринял необходимые меры. В Юргу полетела правительственная телеграмма, предписывавшая немедля препроводить гражданку Казинскую-Грач в Москву, к наркому внутренних дел. Разумеется, Берия мог бы распорядиться, чтобы Ларису прямиком отправили бы на какой-либо участок фронта для зачисления в штрафной батальон, но он, в силу своей профессиональной привычки, а также по врожденному любопытству, наиболее обостренному к особам женского пола, решил всенепременно встретиться с ней. Эта встреча была крайне необходима ему, чтобы попытаться выяснить, чем это так приглянулась Сталину какая-то там Казинская-Грач и почему это вождь, занятый сейчас лишь думами о том, как остановить страшное нашествие фашистов, вдруг вспомнил об этой женщине и проявил к ней столь несвойственное ему внимание. Берия был убежден, что внимание это возникло неспроста, что за этим кроется какая-то жгучая тайна, а он считал, что будет никудышным наркомом внутренних дел, если для него эта тайна, как и многие другие тайны, останется нераскрытой. Постоянно пополняя досье на всю верхушку сталинского окружения, он был убежден, что из поля его пристального внимания не может быть исключен и сам Сталин. История — не прямая линия, история к тому же изменчива, капризна и непредсказуема, вроде красивой женщины с крутым нравом, и чем черт не шутит, досье на самого Сталина может весьма пригодиться и сослужить исключительно важную службу в какой-то критический момент исторического зигзага как ценнейший и единственный в своем роде компромат.
Приказ Берия о немедленном затребовании Ларисы в Москву, однако, не был выполнен тотчас же: Лариса лежала в больнице с воспалением легких и была, по терминологии врачей, нетранспортабельна. Она пролежала на больничной койке почти месяц, после чего областное управление НКВД сразу же запросило наркомат, подтверждает ли он свое распоряжение. В те дни Берия не оказалось в столице и запрос довольно продолжительное время пролежал в папке для доклада наркому. И лишь во второй половине августа Москва подтвердила свое первоначальное требование.
В сопровождении двух конвойных Лариса была доставлена в Москву скорым поездом; местное начальство, догадываясь о том, что вызов этот не случаен, строго-настрого наказало сопровождающим обеспечить ей хорошие условия в пути и предельно вежливое обращение с ней. Она ехала в отдельном купе и была поражена тем контрастом, который отличал эту неожиданную, сокрытую от нее завесой неизвестности поездку от той поездки, которую она совершила после своего ареста несколько лет назад из Москвы в Юргу…
Из камеры внутренней тюрьмы на Лубянке, где изо дня в день, особенно по ночам, следователи мучили ее многочасовыми допросами, приходя в ярость от того, что она дерзко и даже вызывающе отвергала все обвинения, которые им хотелось навесить на нее, Ларису доставили к стоявшему в дальнем железнодорожном тупике товарняку. Вагон был набит арестантками до отказа, не было нар, и потому приходилось стоять или же с большим трудом опускаться на корточки. В вагоне висел стойкий запах коровьего навоза — видимо, в нем еще совсем недавно перевозили скот и после этой перевозки даже не удосужились подмести полы. Этот аммиачный запах густо перемешивался с запахом пота давно немытых людей и с паровозной гарью.
Чем дальше состав продвигался на восток, тем холоднее становились ночи, и легко одетые арестантки спасались от стужи лишь тем, что тесно прижимались друг к дружке. И все же после пыток и избиений в тюрьме даже этот товарный вагон, годный не для того, чтобы перевозить людей, а для того, чтобы сознательно их умерщвлять, показался Ларисе спасительным.
Состав часто останавливался в пути, арестанток трясло до рвоты, всех мучила жажда, люди уже не помнили, когда ели хотя бы жидкую похлебку, так как раздатчики пищи все время «потчевали» их черными сухарями и селедкой, которая, казалось им, вобрала в себя всю соль, имевшуюся в природе. Воду приносили редко, и то лишь тогда, когда арестантки поднимали бунт, грозя разнести вагон в щепки.
Ехали почти месяц, показавшийся целой жизнью. По дороге умерло человек двенадцать — кто от голода, кто от жажды, кто от простуды, а кто и от побоев — конвоиры не очень-то церемонились с арестантками.
В Юргу приехали уже совсем не те люди, какими они были до ареста. С трудом, помогая друг дружке, выбирались из вагонов, шатаясь, шли по ухабистой дороге к деревушке, вблизи которой разместился исправительно-трудовой лагерь. И если бы кто-либо дал сейчас Ларисе зеркальце,— она не узнала бы себя: впалые щеки, иссеченный ранними морщинами лоб, посиневшие, потрескавшиеся губы, седина в черной копне волос, изрядно «разреженных» следователями, потухшие, словно в них сыпанули горсть пепла, глаза.
У ворот лагеря, сколоченных из горбылей, обтянутых колючей проволокой, Лариса в смятении обратилась к старшему конвоя:
— Меня же приговорили к ссылке, а не к заключению в ИТЛ.
Старший конвоя — хмурый небритый старшина, измаявшийся в дальней дороге,— зло рявкнул:
— Куда попала, там и будешь сидеть!
И началась ее жизнь за колючей проволокой, и не столько истязал ее каторжный труд и всяческие другие невзгоды, сколько тоска по Женечке и по Андрею…
Сейчас ей казалось, что все происходящее с ней — сон, больное воображение, мираж,— все, что угодно, только не реальность. И лишь когда поезд плавно остановился у перрона Казанского вокзала, сердце ее затрепетало живым испуганным трепетом: она снова оказалась в городе, где уже так давно оставила своих самых любимых и родных ей людей и о судьбе которых ей ровным счетом не было ничего известно. А еще сердце трепетало от предчувствия возможной беды: а вдруг снова на Лубянку, снова допросы и пытки…
И впрямь, она снова оказалась на Лубянке. Лариса с ужасом смотрела на серую, блестевшую отполированным гранитом фундамента холодную громаду того самого здания, в котором она уже успела побывать, войдя в него в памятный своей страшной неожиданностью первомайский день, и в которое сейчас, с трудом передвигая больные ноги, шла она снова.
И в этом доме, полном неожиданностей и тайн, в доме, где человек, попавший сюда не по своей воле, расставался со своей прежней жизнью, получая взамен совсем другую жизнь, в которой было бы предпочтительнее и не жить, а умереть, Ларису ждало то, чего она не могла себе представить, даже если бы обладала самой изощренной фантазией.
В сопровождении конвойных Лариса лифтом поднялась на третий этаж и через некоторое время очутилась в кабинете самого Берия.
В первый момент она увидела не его самого, а его пенсне: при ее появлении Берия стремительно поднялся со стула, и в стеклах пенсне заплясали блики света, и потому невозможно было рассмотреть выражение его глаз. И в то же время ей сразу почудилось, что он не просто смотрит, а вглядывается в нее, словно через два больших увеличительных стекла. Чем-то обволакивающе-вкрадчивым и в то же время холодным и бесстрастным веяло от этого как бы квадратного человека и его одутловатого и тоже почти квадратного лица.
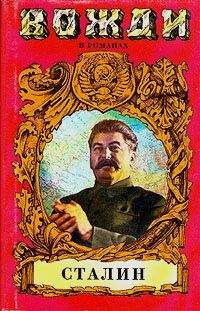

![Картер Браун - Том 13. Пуля дум-дум [Тело. Жертва. Пуля дум-дум. Бархатная лисица]](https://cdn.my-library.info/books/142921/142921.jpg)


