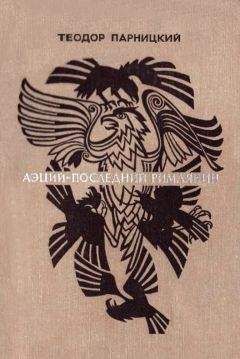— Глупцом я был и слепцом, преследуя Оттона ненавистью и ревностью, — произнес он свистящим голосом. — Не понимал я, что он куда больше достоин сожаления, чем я… куда больше обманут… Помнишь, отец Аарон? Перед воротами Патерна я бросил в лицо императору гневные и оскорбительные слова. Потом подозвал меня святейший отец Сильвестр и сказал наедине: «Никто не должен знать того, что сейчас от меня услышишь. Но тебе я должен сказать, так как не могу выносить, чтобы ты, как глупый осел, лягал раненного копьем льва, мстя ему за мнимые обиды». И рассказал мне все.
— Потому-то ты и плакал тогда вечером, сидя на камне? — прошептал Аарон.
— Да, потому и плакал. Над глупостью своей и над обидой Оттоновой. Вот ты говоришь, отец Аарон, что знаешь, будто греки подослали ее к императору. Но не знаешь, наверное, что она умышленно пробралась к воинам Экгардта, умышленно сделала так, чтобы они напали на нее, чтобы криками призвать маркграфа и предстать с ним перед императором. Просто удивительно, как ей удалось все, что замыслила. Нет, я плохо выразился: ведь не она же это замыслила, а Иоанн Филагат, симонит…
— Иоанн Филагат? — удивленно воскликнул Аарон.
— Да, это он вырастил из нее свою мстительницу. Я же сказал: греки ее подослали. Но я не точно сказал. Не греки, а всего лишь грек. Симонит, предвидя гибель Кресценция и свою собственную, в ожидании кары, стократ им заслуженной, сказал себе: «Я погибну, но пусть погибнут и те, кто обрек меня на мучения». Прежде чем его схватили верные слуги императора, он успел подробно наставить Феодору Стефанию, что она должна делать, чтобы отомстить за его мучения.
«Однако же я знаю больше его, — удовлетворенно подумал Аарон, припоминая разговор с греком по дороге в Познань. — Наверное, только и правды в словах Тимофея, что устами Иоанна Филагата греки склонили Феодору Стефанию верно служить базилевсам».
— Но чем же был этот Иоанн Филагат для Феодоры Стефании? — воскликнула Рихеза. — Почему именно она должна была отомстить за его мучения?
— Но ведь она и не знала, что мстит за его мучения. Он сумел убедить ее, что она вовсе не его делу должна служить, коварно заняв место подле Оттона, а своему: делу своего мужа, сына, Рима. Пугал ее, что, когда Оттон и Григорий окончательно победят, саксы выселят все благородные римские роды на Эльбу. А ведь ты знаешь, Аарон, что ни одна мысль не была столь ужасной и страшной для Феодоры Стефании, как мысль о разлуке с Римом.
— И этого было достаточно, чтобы толкнуть ее на такую страшную измену? Чтобы годы изображать любовь к дяде Оттону? Чтобы подбадривать его улыбкой, когда он казнил ее мужа? Разве она не любила своего мужа?
— Очень любила.
— Не пойму, — начала было Рихеза, но не успела произнести ничего, кроме этих двух слов, так как Тимофей прервал ее неожиданно бурно.
— Есть различные способы, государыня Рихеза, — процедил он со свистом через щербину в зубах, — чтобы склонить женщину к вероломству против того, с кем она идет на ложе. Для одних одни, для других — другие…
Уже смеркалось, но было еще достаточно ясно, чтобы глаза Аарона смогли заметить, как неожиданной бледностью покрылось лицо Рихезы. И тут же побледнел он сам, тут же вновь почувствовал стук в висках и шум в ушах.
— Но почему же только тебе, Тимофей, а не самому дяде Оттону открыл папа Сильвестр эту страшную тайну?! — воскликнула Рихеза таким тоном, словно с чем-то в себе борясь.
Тимофей вновь улыбнулся. На сей раз действительно презрительно, а не только снисходительно.
— Я не такой ученый, как мой милый друг аббат Аарон, — сказал он, — но немного подучил грамматику и риторику. Я знаю, что древние писатели любили выражать свои мысли с помощью сравнений. Так вот, позволь, государыня Рихеза, ответить тебе на последний вопрос сравнением. Известно, что ты верная, преданная супруга государя Мешко Ламберта, верная, послушная дочь государя Болеслава. Но если бы ты предала их, если бы замышляла что-то против них, склоняя в постели Мешко идти на твои коварные уговоры, а я бы об этом знал, скажи: разве поверил бы мне твой супруг, если бы я открыл ему эту тайну? Никогда! Против кого направил бы он тогда свой гнев? Против тебя? Никогда. Против меня! Велико могущество женщины в постели…
— Как ты смеешь так говорить! — взорвалась Рихеза, отрывая руки от балюстрады и судорожно стискивая кулаки.
Тимофей спокойно шагнул вперед.
— Но ведь я же всего лишь подражаю древним писателям, прибегая к сравнению, — сказал он точно таким же тоном, каким в Аароновом сновидении сказал: «Окликни ее по имени».
С этого весеннего вечера все чаще задавал себе Аарон полный тревоги и боли вопрос, который уже сам в себе содержал, к сожалению, не оставляющий сомнений ответ: «Неужели Рихеза действительно Феодора Стефания для Мешко и его отца?!» Из этого вопроса незамедлительно вытекал другой: «Кто же тогда я? Я, прибывший в Польшу по приказанию Рихезы, настоятель монастыря, ею основанного и находящегося под ее неустанным покровительством? Все называют меня здесь: «Вернейший слуга снохи государя Болеслава». Но я, верно служа ей, служу тем самым и делу, которому она служит. Какое же это дело? Она говорит, что это дело наследия Оттона, святое дело правящей миром Римской империи, дело, которое так дорого было и сердцу святейшего отца Сильвестра. Да разве только этому делу! Мой сон и сравнение Тимофея вроде бы говорят, что не только этому делу. Так какому же? А наверное, такому, что скрытно бьет по Болеславу, причем средствами Феодоры Стефании. Значит, я игрушка тайных врагов Болеслава? Не зря, выходит, спрашивал меня Антоний: «Кому ты служишь, аббат?» Значит, и Болеслав, возможно, подозревает меня, что я, верно служа Рихезе, служу делу его врагов?»
Он не мог спать. Вскакивал по ночам с постели и до рассвета кружил по своей просторной спальне. Вгрызался памятью в мельчайшие подробности, связывающие его с Рихезой: лихорадочно припоминал все, что когда-либо услышал от нее в Кёльне, в Мерзебурге, по дороге в Польшу, в Кракове. Воссоздавал в памяти разговоры ее с мужем, которые неоднократно велись в его присутствии или которые ему удавалось случайно услышать. В этих разговорах прослеживал тайно вынашиваемую измену Болеславу. Порой его охватывало такое отчаяние, что он решал немедленно отправиться на поиски Болеслава, поклониться ему в ноги и сказать, что он покидает Польшу. «И куда же ты пойдешь?» — несомненно, спросит его Болеслав, дружески кладя тяжелую свою руку на его хрупкое плечо.
Бот именно: куда? В Рим, к Иоанну Феофилакту, ныне папе Бенедикту Восьмому? Но Тимофей, когда он как-то заговорил с ним об этом, неожиданно сухо, почти неприязненно сказал:
— Говорил я о тебе с папой Бенедиктом. Он сказал, незачем тебе возвращаться в Рим. Твое место в Польше.
Так, может быть вернуться в Англию? Мысль эта начала преследовать Аарона со дня Вознесения девы Марии, когда ему неожиданно вручили письмо с печатью гластонберийского аббата. Это был ответ на письмо, которое Аарон послал в Англию в конце зимы по желанию Болеслава, переданное ему устами аббата Антония.
Дрожащей рукой сломал Аарон печать, дрожащими губами шепотом стал выговаривать прочитанное:
Этельнот, недостойный слуга Христа нашего и Этельреда, короля англов и саксов, ныне пребывающего в изгнании, Аарону, высокочтимому аббату и любезному нашему другу, шлет братский привет.
Двадцать лет прошло, дорогой брат, с тех пор, как я обнял тебя в последний раз, но бессилен оказался ход времени перед силой любви моей к тебе. И ныне люблю тебя, Аарон, так же, как в гластонберийской школе, как на корабле, как в Риме. Никого сильнее не любил я, даже родных братьев. Управляя ныне по воле бога и короля гластонберийским аббатством и нашей школой, я никому не дозволяю сидеть на той скамье, где мы рядом сидели столько лет. Пустое место заставляет меня неустанно думать о тебе, а когда думаю о тебе, чувствую себя счастливым. Никогда я не был так счастлив, как именно в эту минуту, когда узнал, что ты жив, узнал, где находишься, и могу писать тебе…
У Аарона дрогнула рука, на пол посыпались листочки — множество листков, испещрепных плотными рядами мелких, четко выписанных букв. Не письмо, а целая книжечка!
Значит, вот сколько лет отдаления нужно, чтобы узнать, что у тебя есть друг?! И кто? Высокомерный, малословный, обычно грубоватый Этельнот, сын могущественного Этельмера, неимоверно кичащийся своей кровью, богатством, властью отца, королевской милостью?! Ведь он, Аарон, не смел обратиться к Этельноту без дрожи в голосе и в сердце. Как же он робел перед ним, своим товарищем по школьной скамье, избегал Этельнота как мог, хотя все годы учебы старался оказывать ему серьезные услуги, даже не сознавая толком, зачем он это делает, то ли во имя искренней дружбы, то ли из-за желания подладиться, заслужить благоволение молодого вельможи, с которым делит честь быть первым во всех предметах, преподаваемых в известной школе гластонберийского аббатства.