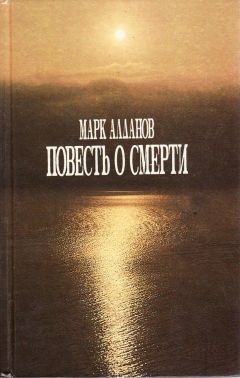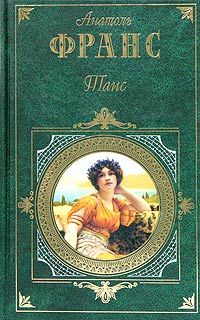— Все торчали в приемных немецких министров и генералов, когда у тех дела шли хорошо. А теперь из Берлина кружным путем приехали в Париж и торчат в приемных союзных министров! И совершенно забыли, что были когда-то в России членами Думы или Временного правительства, или же занимались мирно кто адвокатурой, кто службой, кто коммерцией, ни минуты и не думая об отделении своих стран! — говорил он жене.
Нина Анатольевна с ним соглашалась, но не так гневно. Ее забавляли фамилии министров и делегатов новых стран.
— Послушай только, — говорила она, отрываясь от газеты: — Топчибашев, Мехмандаров, Мейровиц, Поска, Сабахтарашвили! А по имени одного зовут Али-Мардан-бек! On ne s'appelle pas Ali-Mardan-bek!
Это замечание Алексею Алексеевичу не понравилось. Позднее он чуть не устроил жене сцену за то, что она произнесла слово «бош».
— По моему, это так же некультурно, как говорить «жид» или называть изменника Троцкого «Лейбой»!
— Алеша, да ведь все теперь говорят «бош».
— Именно, все. Это и очень скверно.
Поездка Буллита и предложение союзников русским встретиться с большевиками на Принкипо привели Алексея Алексеевича в совершенное бешенство. Тут он сходился со всеми русскими политическими деятелями, и старыми и новыми.
— Замечательный психолог ваш Вильсон! — сказал он в сердцах старому знакомому, нейтральному дипломату. — Хороша была бы встреча! Я первый вцепился бы в горло этим господам!
— Но что же вы предлагаете? — спросил дипломат с недоумением. Он никак не представлял себе, чтобы Тонышев мог вцепиться в горло кому бы то ни было.
— Я предлагаю то единственное, что может предложить разумный человек: союзные правители, в помощь Деникину и Колчаку, должны предписать маршалу Фошу двинуть войска против большевиков. И еще лучше, предписать это сделать немцам: они у нас большевиков посадили, пусть они их и свергают. И, поверьте, большевики трясутся от ужаса: только этого они и боятся.
— Да ведь это невозможно!.. А если все вы, les ci-devant, так думаете, то я не сомневаюсь, что союзники будут очень рады: они только и хотят, чтобы вы отклонили их предложение.
— Может быть, они будут рады не очень долго, — ответил Алексей Алексеевич. — Впрочем, хороша теперь и их собственная трогательная дружба.
Действительно, маленьким, очень маленьким утешением для него было то, что союзники уже все ненавидели друг друга. По Парижу ходили рассказы: Клемансо больше не раскланивается с Вильсоном. Соннино называет президента Соединенных Штатов «американским сапожником». На заседании Трех «Отец Победы» назвал Ллойд-Джорджа лгуном, а Ллойд-Джордж, чуть ли не схватил его за воротник, потребовал извинений, так что Вильсон, почти одинаково ненавидевший обоих, еле их разнял; французский премьер отказался принести извинения английскому премьеру, но выразил полную готовность дать ему удовлетворение, по его выбору, на шпагах или на пистолетах (это очень понравилось Тонышеву). Со смехом говорили о мерах, принимавшихся в Париже иностранными полициями к охране своих высокопоставленных особ: хватали всех, чьи лица казались подозрительными. Так американские сыщики, уж совершенно никого в Европе не знавшие, приняли Клемансо за анархиста и арестовали его у входа в «Отель Крийон»; а их товарищи, по той же причине, задержали в холле «Мажестика» маршала Фоша, явившегося в штатском платье на завтрак к начальнику британского генерального штаба.
Все эти рассказы очень веселили Париж и еще способствовали радостному оживлению. Об условиях мира никто в населении не думал. Важно то, что войны больше никогда не будет. С удовольствием узнавали о создании новых государств и спрашивали друг друга, какие у них столицы и есть ли у них уже гимны. Тем не менее французам нравилось, что Отец Победы покрикивает на представителей малых стран; орал на Венизелоса в споре о греческих делах, обвиняя его в непонимании и в невежестве. Клемансо, особенно после покушения на него анархиста, был на вершине популярности. Все знали, что он будет президентом республики и только с тревогой спрашивали, сохранит ли он свои умственные способности до конца президентского срока: всё-таки ему тогда будет уже под девяносто лет. Кое-кто по этой причине нерешительно предлагал кандидатуру Поля Дешанеля. В общем оживлении невольно принимали участие и русские. Некоторые из них, еще имевшие дипломатический паспорт и связи, иногда получали приглашения на приемы. Мог бы добиться приглашения и Тонышев, но он ничего для этого не сделал и почти ни у кого из иностранцев больше не бывал.
Уже после подписания мирного договора, в посольстве, где, по прежнему без большого дела, собирались видные люди, он встретил знакомого политического деятеля, только что приехавшего из России кружным путем через Японию и Соединенные Штаты. Тот после доклада крепко пожал ему руку и выразил сочувствие.
— В чем?.. В чем?.. — спросил Алексей Алексеевич, бледнея. Знакомый удивленно на него взглянул и пожалел о своей оплошности.
— Да я слышал… О брате вашей жены… Я не думал… Может быть, я и ошибаюсь?..
— Что такое? Ради Бога, скажите правду!.. Мы ничего не знаем!
Он узнал, что Дмитрий Анатольевич и Татьяна Михайловна в Москве покончили с собой.
Ласточкиным было сказано, что оставаться в клинике можно «сколько понадобится», но это были слова неопределенные. Разумеется, их не гнали, их по прежнему очень хвалили врачи и сиделки. Но они сами понимали, что оставаться без конца нельзя. Недели через три Скоблин, встретившись в коридоре с Травниковым, пригласил его в свой кабинет. Никита Федорович испуганно на него взглянул: давно ждал неприятного разговора. Вышло всё же не так плохо. Хирург сказал, что необходимо перевести Дмитрия Анатольевича из отдельной комнаты в общую палату и просил его к этому подготовить:
— …Вы сами понимаете, как обстоит дело. Я уже, разумеется, отказал по крайней мере десяти человекам, находящимся в таком же положении, как он. Все московские больницы битком набиты людьми. А отдельные комнаты теперь уж величайшая редкость. В прежние времена, до них, это было отчасти связано с денежным вопросом, и больные рассматривали перевод в общую палату как какое-то понижение в чине. Но теперь всё бесплатно, в этом я отдаю им справедливость, так что вопрос уж совершенно не в этом. Дмитрий Анатольевич вне опасности. Лучшим его положение вряд ли станет. Уход в общей палате точно такой же. Я обхожу всех больных каждый день. Кроватей в палате, разумеется, только восемь.
— Значит, в общей палате они могут оставаться сколько угодно?
Скоблин развел руками.
— «Сколько угодно»! Разве теперь можно заглядывать хоть на месяц вперед. Меня и самого могут выставить в любую минуту. Удивляюсь, как не выставили до сих пор… Татьяна Михайловна никогда с вами о «будущем» не говорила?
— Говорила о возвращении домой. Им оставили две комнаты. Тоже могут в любую минуту одну отобрать.
— Две комнаты огромное преимущество. Во всяком случае ей было бы удобнее, чем спать на диванчике.
— Если есть что, о чем она, несчастная, совершенно теперь не думает, то это о своих удобствах!
— Да, я понимаю. Она очень достойная женщина. Но в общей палате она, разумеется, оставаться на ночь не может… Они помнится, во втором этаже живут?
— Во втором.
— Разумеется. Костыли и повозочка есть, но о том, чтобы он спускался по лестнице нет речи. В первое время мы могли бы посылать служителей, чтобы они его сносили вниз. Впрочем, и не такая радость ездить в повозочке по улицам… Как знаете. По моему, лучше ему полежать пока можно в общей палате. Жить же ему, разумеется, не очень долго, как впрочем и нам всем. Жили и померли, и ничего такого нет. Разве вам, Никита Федорович, страшно?
— А вам нет? — сердито спросил Травников.
— Разумеется, нет.
Татьяна Михайловна мучительно колебалась. Ей казалось невозможным уходить от мужа на ночь. Решил вопрос сам Дмитрий Анатольевич.
— Давно пора вернуться!.. И не надо откладывать! — прошептал он еле слышно, но решительно.
Металлическая мыльница находилась дома. «Да если б была и здесь, то как же можно это сделать в общей палате?» Он думал о самоубийстве с каждым днем больше и только с ужасом поглядывал на жену. «Что я ни сделал бы, один из жизни не уйду».
Было решено переехать через два дня. Точно, чтобы их утешить, Скоблин разрешил Татьяне Михайловне читать вслух мужу:
— Разумеется, часика два-три в день, не больше. И не газеты, а книги и такие, которые не могли бы его волновать, — сказал он и сам принес бывший у него в кабинете том Пушкина. Дмитрию Анатольевичу и не хотелось слушать, но это было морально легче, чем разговаривать или молчать с женой. Сначала он только делал вид, будто слушает. Затем стал вслушиваться.
— Какая у него… мудрость, — еле слышно выговорил он. — Всем надо учиться… Да, именно «благословен… и тьмы приход»… — Он вспомнил эту музыкальную фразу Чайковского, всегда сильно на него действовавшую, и незаметно смахнул слезу. Руки у него уже работали сносно. «Чтобы проглотить, сил хватит»… И тотчас та же фраза отозвалась в памяти Татьяны Михайловны.