— Это анкета, Хильда, это анкета! Мне дали се сегодня в школьном отделе. Достаточно сказать «да» и заполнить ее, и меня сразу же назначат учителем. Тебя тоже могут взять учительницей, фрау Поль так сказала, правда, да поверь же мне…
Не замедляя шаг, Хильда сказала, что она может отлично устроиться и в другом место.
— Но мы могли бы работать вместе, в одной школе, так сказала фрау Поль, могли бы поехать в Рашбах, получить там квартиру — столовая, спальня, кухня, сарайчик, приусадебный участок… Можешь даже повесить на степу гитару с ярким бантом… Ну, Хильда… В конце концов, это и мой ребенок!
Она еще раз остановилась, бросила на него быстрый испытующий взгляд и с надеждой спросила:
— А любовь тоже? Скажи «да» или «нет», скажи мне правду, Рудн, во имя… — она запнулась, поглядела на свой живот. Он понял, во имя кого.
— Подожди еще немного, вот вернется Залигер и я буду знать точно…
— Ля уже знаю… — сказала Хильда и оттолкнула его.
Когда он снова поднял голову, Хильда была уже далеко. Она бежала изо всех сил и исчезла в столпотворении темных фигур, которые одичало рвались к краю платформы.
Оп крадется следом за ней, но уже не пытается отыскать ее в человеческом водовороте. Когда поезд останавливается и лавина выходящих сталкивается с потоком штурмующих, он отходит в сторонку и безучастно созерцает это неприглядное зрелище; он видит, как горлодеры выстроились вдоль края платформы, локтями и кулаками отвоевали себе два купе, как, выиграв битву, они выскакивают обратно на платформу, во всю глотку оповещают публику, что у них есть места для женщин и детей, и действительно, помогают сесть женщинам, молодым и старым, с детьми и без детей, видит, как их шайка завоевывает общие симпатии, как толпа громко величает их молодцами и славными ребятами и как они, гордые собственным великодушием, задирают нос от похвал. Видит он, как высоко над головами плывет яркий бант гитары и как те, кто, несмотря на причитания и толкотню, не сумел прорваться в вагоны, повисают на подножках, на буферах, а багаж привязывают к поручням. Этим тоже помогают горлодеры… Вот, фыркая от злости, поезд, наконец, трогается с места, а Руди все еще стоит в сторонке. И лишь углядев при свете газовой мигалки яркий бант и зеленый платок в битком набитом купе, он вскакивает на подножку следующего — последнего вагона…
За домиком стрелочника почти беззвучно падает в водоем струйка воды, под дождем искр расцветает алым цветом опаленная высохшая слива, лохматый дым поднимается над мертвой печной трубой… «Лю-ти-ки, лю-ти-ки» — выстукивают колеса по железному мосту через Пель. Город стоит под горой, лепится дом к дому, словно стадо умных, старых коров, которые спят стоя и во сне пережевывают вчерашний день и жмутся и греют друг друга своим теплом средь холодного, ночного пастбища… Остановка — Цвикау. С человеческим потоком выплеснулась тревога на широкие каменные ступени вокзала — большого, больше, чем в Рейффенберге. Поток затихает, люди спят лежа, сидя, стоя. Напрасно щелкает большая стрелка электрических часов — неумолимый погонщик минут. Хагедорн сидит среди спящих, прислонясь спиной к стене. Двумя ступенями ниже спит Хильда — голову уронила на рюкзак, лицо закрыла руками. Он сказал ей: куда бы ты пи пошла… Только другими словами. «Я не отстану от тебя, пока ты мне не поверишь…» Вот как. А она оттолкнула его другой поговоркой его матери, что он, мол, из тех, кто ухитряется служить и нашим и вашим. И опять повторила слово «мерзко», и опять сделалась недоступной. Хагедорн не может уснуть; он сидит, стиснув голову руками, и все думает, думает… Должно быть, такова природа женщин. Если женщина готовится стать матерью, а замуж еще не вышла, в ней вспыхивает ненависть к мужчине, первобытная ненависть, ненависть амазонки, ненависть, делающая из Гретхен Пентесилею.
Кто мне об этом говорил? Ах да, Залигер, в незапамятные времена. Он любил вникать во всякие болячки, к которым можно было подойти с психоанализом: он хотел стать доктором и найти тот единственный ключик, с помощью которого можно будет лечить всех женщин. Однажды он даже до такого договорился, что женскую душу, мол, надо выпотрошить заблаговременно, как рождественского гуся, иначе рискуешь в один прекрасный день наткнуться на желчный пузырь… Но почему' же и Лея отвергла меня?.. Палка — вот мой кавалер, рта нет, кишок нет. вопросов нет, воскресную шляпу с Гип-Гип-Гипериона получит мой кавалер… Мерзкие эти обороты речи у нее только от Залигера, от кого ж еще? Это Залигер испортил Лею. Если он еще раз протянет к ней свои «музыкальные» пальцы, я ему так наподдам… Но к нам это уже не относится, понимаешь, Хильда? Я, кажется, начинаю понимать: с Леей ушло от меня что-то старое, с тобой пришло ко мне что-то новое. Но старое могло быть так же прекрасно прежде, как прекрасно новое теперь. То, что было прекрасно, не уходит бесследно, оно остается прекрасным и при новой красоте. Ведь каждый новый дом возводят на старой земле. А самые красивые дома стоят вдоль железных дорог, вдоль шоссе, в таких домах жизнь кажется непреходящей, потому что мимо них она мчится на всех парах… Если бы Хильда могла понять разницу между прежде и теперь, поверить в непреходящую красоту. Но смогу ли я ей вообще что-либо объяснить?
Па минутку представить себе такое: мы живем в Рашбахе, женаты, работаем в школе, у нас ребенок, а то и двое детей… И я говорю ей: пошли, нас звали сегодня вечером к доктору Фюслеру и к Лее… Фюслер берет свою виолончель, Лея садится за рояль, они играют, а я сижу рядом с Хильдой, держу ее руку в своей и думаю о том, как прекрасно держать Хильду за руку, а слушать Лею и смотреть на нее. Как отрадно, когда прекрасное прежде и прекрасное теперь уживаются рядом, словно сестры…
И если бы даже Лея стала чьей-то счастливой женой, все равно, ничего не изменилось бы, ровным счетом ничего. Пусть только ее мужа не зовут Залигер. От Залигера я должен ее спасти… Сможет ли Хильда понять это?.. Да уж, наверно, поняла бы, если бы я умел говорить, а не только мямлить, или кричать, или завывать, если бы душа моя не была поражена немотой… «Если б грубыми перстами я касался струн неловко, я б отчаянью предался», — так, кажется, сказано где-то у старого Мерике. Старику хорошо было плакаться. Его время — безоблачный пустячок по сравнению с нашим. А вот почему у меня пальцы такие грубые и душа немая, не понимает никто, даже Лея. Это я и хотел объяснить ей в письме. А потом вытащил листок из конверта. И хорошо сделал. Все, что там сказано, я унесу с собой в могилу.
Но до тех пор мне надо делать вот что: не отставать от Хильды, вместе с ней растить ребенка, потому что ребенок принадлежит нам обоим и нас обоих когда-нибудь спросит, что мы для него сделали и чего не сделали. На худой конец выучить хоть ребенка говорить человеческим языком… Ты еще поверишь мне, Хильда! Вспомни-ка другую присказку моей матери: «Малыш — что мышь, а дом — вверх дном…» Ты еще поверишь мне, что вчера — это совсем не сегодня, что сегодня — это другой день и что разговоры у водоема о завтрашнем дне не проходят бесследно.
Секунда, единственная секунда: и поезд, следуя за извивами реки, спускается в низину. Здесь погода другая: неистовый дождь хлещет по стенам вагонов, но беднягам, которые виснут на подножках, вцепившись онемелыми руками в поручни и так высоко подняв воротники своих курток, что издали они напоминают всадников без головы. Руди догадывается, что скоро будет мост, поезд одолевает насыпь. Нескончаемая череда мокрых шпал, мокрый балласт, стремительно убегающий из-под ног, все ярче поблескивают в свете занимающегося дня. Поезд замедляет ход. Кто-то что-то кричит, должно быть, часовой на мосту. Он в плаще с капюшоном. Невеселое занятие — стоять на посту при такой собачьей погоде. Что он кричит? «Берегись», что ли? Или это грохочут колеса по стальному скелету моста? Вдоль колеи нет пешеходной дорожки. Лишь несколько шпал кинуто на стальные ребра. Хорошо хоть, что Хильда согласилась сесть на то место, которое я добыл для нее в Цвикау. А ведь сперва не хотела. И потом не сказала спасибо, да и не к чему ей было говорить. А я прицепился подальше, чтобы она не увидела меня и не стала из одного лишь сострадания выкраивать мне место в своем купе. Хорошо, что там сухо и тепло. Хильде нужно тепло, ей может стать дурно в ее положении. В сенях-то она упала…
«Берегись-берегись-берегись!» — грохочут-бормочут колеса. Грохочут по стальному скелету над рекой, что курится от дождя водяной пылью. Вот под ними уже не река, а снова насыпь, и снова они ускоряют свой бег — быстрей, все быстрей. Мокрый ветер бьет прямо в лицо.
Подниму-ка я воротник повыше. А насыпь, должно быть, длинная и пологая: вон внизу, между шпалами, все еще мелькают огни. Наверно, она длиной с ту насыпь через «мокрую яму», о которой рассказывала Анна. Эх, Анна, Анна… И тут, отуманенный сном, Руди отдается во власть ложного представления, будто это и есть та самая насыпь через «мокрую яму». Стоит выглянуть из-под куртки, и перед тобой встанет домик Анны, мирный домик у дороги, где медленно тянется время и долго живут вещи. Анна — грезит он — Анна стоит у шлагбаума со свернутым флажком, повязав косынкой свои цыганские кудри, в такую непогодь она надела сапоги, те, что я оставил ей, мягкие сапоги из телячьей кожи, Анна, свежая и ясная, стоит у шлагбаума, и от нее пахнет душистым мылом, она машет… машет, и рука ее падает. Не маши, Анна, не маши, я расскажу тебе что-то очень хорошее. Отдавшись грезам и чувствуя на себе чей-то пристальный взгляд, Руди чуть приспускает воротник своей старой кожаной куртки, что укрывает его от дождя, и видит перед собой пустынную равнину и чью-то оскалившуюся рожу под длинным, лихо заломленным козырьком, рожу, на которой недостает одной брови… Секунда, единственная недвижная, прозрачная секунда — и тут же набитый песком кусок шланга увесисто бьет его но затылку, на глаза Руди накатывается черная волна крови, у него еще хватает сил крикнуть и оттолкнуться от подножки и, отталкиваясь, подумать, что прыгать надо лицом по ходу поезда и стараться упасть на четвереньки… Ему и в самом деле удается встать на четвереньки, но он уже не чувствует, как бьет его по лицу бугристая насыпь, как, ударившись о землю, ofec перекатывается на спину и как плакучая ива, нежно склонившаяся к земле, чуть заметно вздрагивает от его грубых объятий…
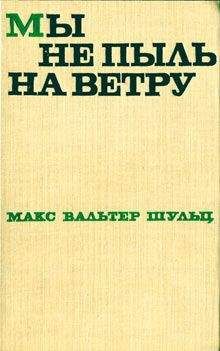
![Константин Аксаков - Вальтер Эйзенберг [Жизнь в мечте]](https://cdn.my-library.info/books/158291/158291.jpg)


