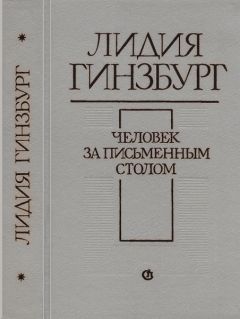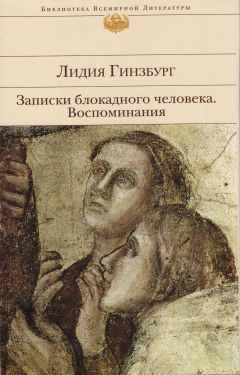Природой как антитезисом администрации злоупотребляли неудачники. Неудачники, меланхолики, люди, по социальным, а иногда по биологическим причинам отторгнутые от типовой человеческой жизни, тянутся к природе как к месту, куда можно отступить и где, в случае чего, удобнее переменить правила игры. Это понимание бесплодное и узкое, от которого следует отказаться, но отказаться трудно.
Есть трудовое и производственное отношение к природе. Есть отношение чувственное, когда природа — это солнцем разогретая кожа, это горячая нежная пыль под босыми ногами, или вода, отнимающая у тела его тяжесть, или тугая, скрипящая, пахнущая трава, в которую погружаешься, как в воду…
Я же хочу сейчас сказать о человеке, для которого природа — материал или условие работы творческой памяти. Возобновляемость элементов, повторение их соотношений — это однообразие природы, о котором с некоторым презрением говорил Гегель, — сравнивая его с изменчивостью исторических ситуаций. Между тем именно однообразие природы раскрепощает сознание. Свободная от хаотических впечатлений города, возбужденная созерцанием прекрасных и полных значения вещей, уверенная в том, что вещи эти никуда от нее не уйдут, и она застанет их в том же соотношении, когда захочет вернуться, — мысль пересекает природу и идет дальше. Это психологический факт, знакомый каждому, кто любит думать, гуляя.
В природе ценности — от идеи божественности до физиологического наслаждения запахом, цветом, теплом — проявлены с необыкновенной отчетливостью; символика ее — иносказание самого главного: рождения, смерти, любви, труда, созидания, радости и печали. Природа вся, от вулканов и ледников до сухой былинки, подверглась подробнейшей символической обработке. Так что каждый, сам того не замечая, носит в себе великое множество натурфилософских смыслов.
Есть что-то успокоительное во всеобщности, в неотменяемости значений природы — как если б они обещали, даже скептическому уму, достоверность мира.
Так мысль, описавшая круг, приходит опять к вопросу о ценности — о понимании жизни и смерти. Той же аллеей, с которой началась прогулка, медленно возвращаюсь в гостиницу. Здесь месяца два тому назад с моим собеседником мы говорили о трансцендентных и имманентных людях. Трансцендентные люди требуют от своего времени абсолютов. И, когда время им не дает абсолютов, иные из них над своей праздностью, над кривыми путями, над вялостью импульсов воздвигают последнее самооправдание: мысль о ценности столь высокой, что ее нельзя взять из себя самого, и о том, что эта ценность не выдана временем.
Поступившиеся своими способностями ради своих вожделений оправдываются отсутствием объективной истины, люди слабых возможностей оправдываются отсутствием побуждений. Этим остается хотеть, чтобы все были как они; они ногтями врезаются в доказательства всеобщей бесплодности. Но не все вокруг согласны быть бесплодными, — в том числе имманентные люди, наделенные творческой волей. Как возможен вообще человек с имманентным переживанием ценности? То есть как может эгоцентрик найти в своем опыте предельную для него ценность, не только не выводимую из наслаждения, но почти никогда не совместимую с наслаждением? Только если самая форма прирожденного каждому переживания ценности высвободилась и сама для себя подыскивает содержание. Творящий работает на внеположную социальную действительность, даже не понимая ее объективности, в силу неутолимой воли к осуществлению своих возможностей в созидании и труде. У него иногда даже есть свой проект идеальной смерти: творческая исчерпанность, предел, у которого он познал все, что мог познать; потому что познавание не бесконечно.
Для человека этого типа жизнь равна осознанию жизни, и все неосознанное, как все забытое, падает в провал небытия. Единство сознания — для него это связь материалов творческой памяти в ее непрестанной борьбе со смертью, изнутри норовящей урвать еще и еще кусок действительности.
Пусть человек говорит: зачем жить, если я умру? зачем любить и трудиться, если содержание неизвестно? — он задает бесполезные вопросы и высказывает сомнения, которые не могут отразиться на практике. Что бы человек ни думал и ни говорил по этому поводу, он все разно будет любить, потому что любовь входит не спросясь; будет трудиться, потому что творческая способность принуждает, как закон, и мучит, как совесть.
И все же в работе этих форм душевного опыта ему мерещится что-то абсурдное. Так найти примирение с жизнью и смертью могут равнодушные и уверенные в том, что «…в конце концов можно было бы и не существовать».
Недостаточно равнодушные втайне надеются на то, что форма свидетельствует о содержании.
Конец 1930-х
(Вариация к теме — «Мысль, описавшая круг»)
Есть тип сознания, мироощущения, которое можно назвать имманентным. Люди этого склада лишены безусловных, внеположных им ценностей. Их ценности (без ценностей человек действовать не может) — либо заданные им правила социума, либо порождение собственных их влечений, способностей и возможностей. Этот тип сознания существует в глобальном объеме, и глобален поэтому вопрос нравственной победы или поражения в схватке с его погибельной бессвязностью.
Имманентному сознанию труднее всего отрешиться от того грубого пространственного понимания времени, с которым боролся Бергсон. Душевная жизнь для него — не длящаяся связь взаимопроникающих элементов, но набор уединенных мгновений, на которые время рассечено автоматически. Эта концепция, в сущности, не может служить даже целям гедонизма, потому что мгновение, принимаемое ею за единицу, либо еще не возникло, либо уже прошло; оно навсегда недоступно сопереживанию. И эта концепция в конечном счете отрицает то самое наслаждение настоящим, ради которого она отрицает все остальное. Но человек, всегда недовольный, недоволен и тем, что забвение снимет его боль. В непрочности, в бесцельности страдания есть нечто еще более оскорбительное, чем в мгновенности наслаждений, — какое-то неуважение к человеку.
Имманентное сознание не в силах установить связь элементов жизни. Но и со смертью у него обстоит не лучше. Если эмпиризм хочет быть честным и притом не хочет визжать от страха, он может только сказать словами Эпикура: смерть нас не касается. Когда есть мы — нет смерти, когда есть смерть — нет нас.
Имманентное сознание не понимает наслаждения, провалившегося в щель между прошедшим и настоящим; не понимает страдания, потому что в бесследно проходящем страдании для него смысла не больше, чем в исчерпанном наслаждении. Оно не может иметь отношения к смерти, поскольку смерть его не касается. Оно вечно пусто, — как решето, подставленное под льющуюся воду.
Основные факты социальной жизни — бытовые, правовые, моральные — это факты связи, предполагающие действительность прошедшего. Только так обосновываются — вина, возмездие, несмываемая обида, честь и потеря чести, заслуга, долг…
Пусть гедонизм изгнал понятие связи из своего обихода; это понятие вернется к нему с другого конца и беспощадно докажет свою достоверность. И если эгоистическое сознание может порой обойтись без долга, без чести, то все равно ему не обойтись без раскаяния…
Предметы раскаяния, так же как и предметы истории или искусства, одновременно принадлежат настоящему и прошлому (если б они не входили в настоящее, раскаяние не было бы так мучительно; если б они не принадлежали прошлому, оно не было бы так непоправимо). Раскаяние — один из самых мощных механизмов воображения и памяти, вырабатывающий представления, подробные, необратимые, ужасные именно тем, что когда-то представляемое было в нашей власти. Раскаяние неотделимо от чувства неиспользованной власти над действительностью. Это вина и трагедия воли. Шопенгауэру принадлежит мысль, что раскаяние — казнь воли, которая сделала не то, что она хотела. Глубинная воля, постигающая свое единство с другими, сама себя не узнала. Ее запутали поверхностные хотения злобы, корысти, тщеславия, малодушия, лени. Одна из формул раскаяния — это онегинское «привычке милой не дал ходу…». Зачем, зачем не дал? Еще бы немножко уяснить себе тогда свое желание. Нет в раскаянии ничего более раздирающего, чем эти немножко, эти почти.
Жизнь и смерть близкого человека — лучшая пища для раскаяния. И это потому, что все, чем мы ему отвечали — равнодушие, раздражение, рассеянность, — не могло быть обнаружением нашей воли, но только ее заблуждением. И это еще потому, что так несомненна власть над жизнью близкого и любившего нас человека. Очертания этой жизни могли быть изменены, стоило только направить правильно волю… Это как драгоценная вещь, побывавшая у нас в руках и по невежеству отброшенная прочь. Структура его плачевной жизни удваивается теперь другой структурой с воображаемыми и неосуществленными поправками. Его уже нет, но обе структуры — бывшая и долженствовавшая быть — ведут в нас, а быть может, и вне нас свое непонятное существование. И за все, что хотели исправить и не исправили, мы несем вину, как творец за несозданное творение.