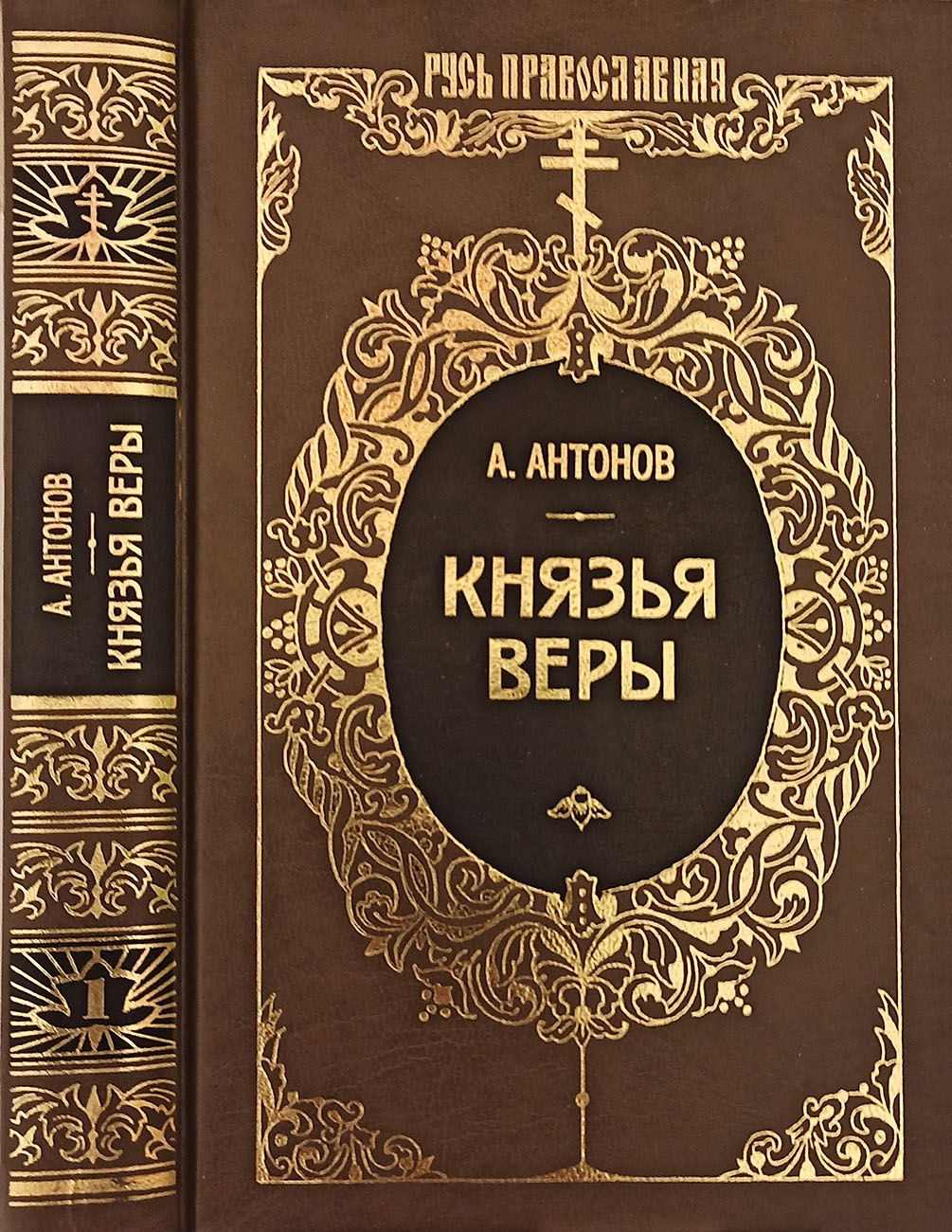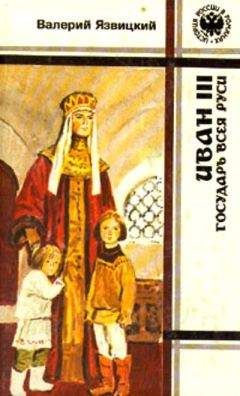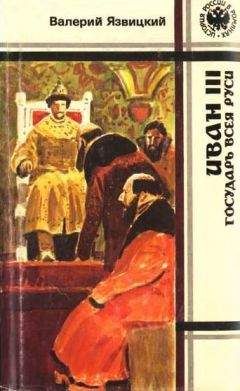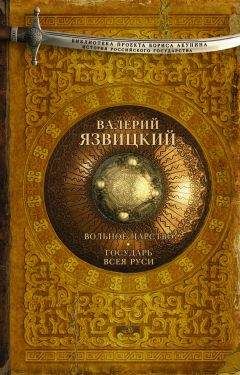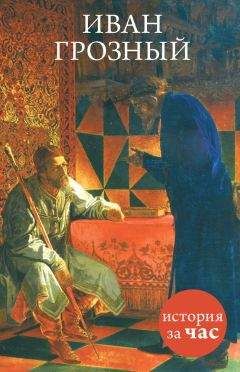не питал, что голод минует, обойдёт стороной российские города и веси.
И тут зашевелились бояре, князья, именитые дворяне, думные дьяки. Да «шевеление» в одну сторону шло: как бы хлеб подальше в закрома и амбары упрятать. Ключники и дворецкие с дворней, с вооружёнными холопами по вотчинам умчались, чтобы там все припасы съестные подальше убрать, чтобы господ своих успокоить.
Князь Фёдор Мстиславский первым распорядился все запасы хлеба спрятать в глухие амбары и стражу к ним выставить. Немало хлеба у князя, на три года, а то и на пять лет хватит без помех. Да и повод нашёл надёжный для оправданий.
— Нет у меня грехов перед отцом Всевышним, оттого и голодать не намерен, — говорил он трубным голосом своему дворецкому. — А у кого грехов много, вот и пусть для общины раскошелится. — Про себя князь винил лишь одного человека, за великие грехи которого Бог наслал на Россию великие же напасти. А был этим человеком царь Борис Фёдорович. И сожалел князь об одном, о том, что при венчании осыпал Годунова двумя пригоршнями золотых монет.
— Грешен самочинец лживый, грешен! Ну да твой век недолог, — казнил князь Мстиславский царя Бориса Годунова, в душе лелея надежду на появление законного царя на Руси. А имени его князь пока не называл даже про себя. Но знал, что он уже идёт к престолу, идёт хотя и окольными путями, да уверенно.
Шло такое же брожение умов и по другим именитым боярским подворьям. Князья Голицыны между разговорами о слухах про «законного» царя, торопились убрать лишние припасы. Тем же были заняты Репнины, Салтыковы, Шуйские, да и не счесть всех, кто готовился пировать во время чумы.
И только царь Борис Фёдорович и патриарх всея Руси Иов думали над тем, как избавить народ от голода. Но ни тот, ни другой пока не представляли размеров стихийного бедствия и пытались своими запасами прокормить всех нуждающихся в куске хлеба. В Москве да и по другим городам царь открыл хлебную торговлю по прежним ценам. А как узнал об этом голодающий народ, так валом повалил в первопрестольную. И ходоки появились из дальних городов с просьбой прислать хлеба. Пришли выборные из Ярославля, Твери, Тулы, Рязани. Царь и в эти города повелел отправить обозы с хлебом да из местных житниц, где имелись запасы, выдавать зерно.
К концу первой голодной зимы бедствие охватило почти всю русскую землю. Голод пришёл во все порубежные области. Просили хлеба Смоленск, Новгород, Псков, Каргополь, Устюжье, Нижний Новгород. Лишь Казань молчала. Да и причины были. Гермоген, зная нелюбовь к себе царя Бориса, давно строил жизнь в инородном крае независимо от Москвы, но не в политике, а в житейской справе. Помнил Гермоген и предупреждение Петра Окулова о голоде и море, готовился к этому бедствию.
Нижегородскому краю было труднее, чем Казанскому. Впрок хлеба не заготовили. И пошли ходоки в Москву. Но у Бориса Фёдоровича были претензии к Нижнему Новгороду — вольно жилось там Бельскому, — и он отказал просителям из волжского города, сказал, что есть ещё более голодные, чем в Нижнем Новгороде.
«Рыбы ловите больше, кормитесь ею», — посоветовал царь ходокам.
Они же домой не вернулись, позор остановил, да в Москве все остались и полегли от голода.
Но выручил нижегородцев патриарх Иов. Когда другие ходоки пришли из Нижнего да распростёрлись на Соборной площади Кремля, пришёл патриарх и спросил их:
— Какая земля вас прислала?
— Нижегородские мы. Откажете в помощи, все умрём от голода, — ответил старший из ходоков, синеглазый и синелицый волжанин.
— Наберитесь терпения, дети мои, будет вам помощь, — ответил патриарх и направился в царский дворец.
Борис Фёдорович с Игнатием Татищевым беседовали о торговых делах с Англией. Патриарх спросил на всякий случай:
— Сын мой, царь-батюшка, думаешь ли ты нижегородцам помощь послать? Пришли от них новые ходоки.
— Отче владыко, пусть не обессудят. Отощали мои закрома, а ещё войско кормить нужно. Вот думаю купить хлеба у англичан, да зазорно... Ты бы сам, святейший, подумал, как им помочь.
— Всё, что может церковь, мы делаем. Иисус Христос отдавал своей пастве последний кусок хлеба. Церковь — тело Христово. Как же нам не поделиться?! Но ты повели мне обоз собрать. Вышлю им, пока санный путь стоит, хлеба из коломенских монастырей. Да ещё гонцов в Казань отправлю с повелением, чтобы казанские монастыри хлебом поделились...
Царь и патриарх в тяжёлые годы народного бедствия встречались чаще, чем раньше. Борис Фёдорович ощущал в себе острую потребность поддержки своего духовного отца. Он знал, что в народе говорят, будто за его грехи разгневался Всевышний на россиян и наслал на них великий мор. Борис многажды спрашивал Иова:
— Отче владыко, ты знаешь, что за Бога живота не пощажу и никогда не нарушал его заветов. За что же мне сие наказание?
— Спаси и сохрани тебя Всевышний. Сие бедствие не наказание. Оно есть испытание Господне. Иисус Христос страдал и нам завещал. Да сие испытание не последнее. Ждёт нас Божий гнев за то, что Гришку Отрепьева выпустили из рук. Он, сатанинское исчадье, выпестованное в боярских чертогах, нарушит тишину России, когда схлынут глад и мор. Ноне докладывают, Отрепьев в Сомборе и шлёт оттуда бунтовские грамоты по южным городам. Смута подкрадывается на всю Северскую землю. Самозванец сбивает разбойничьи шайки да во главе с казаком Ивашкой Болотниковым, что из салтанского плена сбежал, шлёт их в Путивль. А Путивль тот столицей объявлен Ивашкой, но стал гнездом смуты.
— Всё ведомо мне, отче владыко. Сердце кровью обливается, как подумаю, что пожар на Русь наближается. А делать не ведаю что, затушить не знаю как. Придётся испить чашу страданий.
Иов подошёл к Татищеву, тихо сказал ему:
— Иди, сын мой, погуляй. Скажут, как прийти.
Игнатий слегка поклонился и молча ушёл. Патриарх проводил его взглядом до дверей, повернулся к Годунову:
— Сын мой, ты государь всея Руси. И не к лицу тебе сей разговор, коль ведаешь про смуту в Северской земле. Вели людям Семёна Никитича, а то и весь Разбойный приказ подними, но чтобы достали Гришку Отрепьева. Да осуди его принародно за измену! — Иов, уже немощный старец, ещё не страдал потерей голоса. Всё так же сильно и властно звучал он и достигал самых глубин государевой души. И глаза патриарха светились ясностью ума. — Помни, сын мой, что многие именитые видят в Гришке не самозванца,