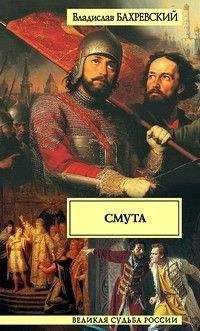Едва переступили порожек кельи, Гермоген, сидевший у стола, остановил Ивана Никитича властным жестом руки:
– Ты ступай! Тебя глаза устали видеть. Больно частый ходок. – И улыбнулся Михаилу. – Как ты мужествен. Но как же ты кроток!
Михаил стоял посреди кельи, не смея с ноги на ногу переступить.
– Погляди на меня, погляди, подними очи смело, – сказал Гермоген. – Больше, может, и не доведется.
– Благослови, святейший.
– Благословляю.
Михаил счастливо устремился к патриарху, но подходил, однако, со смиренным непоспешанием.
– Стать у тебя истинная, от царя Константина, – сказал Гермоген, благословляя юношу. – Возьми скамейку, садись ближе. Погляжу на тебя. Нам с тобой и говорить много не надо. Для единых сердцем помолчать в согласии слаще пира и высокоумия.
Глядел стариковскими, совсем домашними глазами. Михаилу было неловко.
– Кротость – лучшая прибыль царству. Никогда не печалуйся, что не рожден помыкать ни полком, ни человеком, ни кошкой. Твоим благожеланием спасена будет.
Михаил поднял хорошие свои бровки – кто спасется? Не посмел спросить.
– Ступай, я утешен. – Гермоген положил на голову юноши большую свою руку. Ни тяжести, ни старческого холода: прикосновение легкое, ласковое.
Михаил встал, поклонился. Гермоген тоже встал и тоже поклонился.
– Святейший! – прошептал юноша смятенно и торопливо поклонился трижды, и трижды поклонился ему Гермоген.
У Ивана Никитича правое ухо было красное: уж так, видно, прижимался к двери.
– Что? – спросил племянника.
– Не знаю, – ответил Михаил растерянно.
– О чем говорили?
– Мы молчали.
Иван Никитич поглядел на Михаила обидчиво и быстро захромал прочь из опального дома.
10
В ночь на Страстной вторник все польское воинство спало, не снимая доспехов, а в городе даже собак не слышно было. Москва, утомленная долгим постом и молитвами, спала, как в забытьи.
Дождавшись рассвета, Гонсевский приказал полкам иноземного строя, предавшим русское войско в Клушине, построиться за Фроловскими воротами.
Вся свора доносчиков и соглядатаев навострила глаза и уши, но, хоть тресни, не с чем было бежать к хозяевам, никакой надежды на косточку.
В дозволенный для службы, в светлый час попы отпирали церкви, зажигали лампады и свечи, пели во имя Страстной седмицы пятидесятый псалом:
– «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои.
…Окропи меня иссопом, и буду чист; омой меня, и буду белее снега».
Покряхтывая на утреннем, на колючем морозце, торговые люди отпирали лавки. Взбадривали себя и ранних покупателей окликами, присловьями:
– С Дарьей, с грязными пролубницами.
– Оклади пролуби!
– Мороз, вот тебе хлеб да овес! Убирайся подобру-поздорову!
Солнце взошло на небо ярое, от снега веяло припеком.
Хмурые польские дозоры, видя обычную мирную Москву, оттаивали, посмеивались над Гонсевским:
– Сам не спит, усопикий, и другим не дает, пикоусый!
Гонсевский, однако, покою не поверил… Приказал ротмистру Николаю Косаковскому все пушки, стоящие под стенами Кремля и Китай-города, поднять на стены.
– Матка Боска! – изумился вдруг ротмистр, надвигая железную шапку на глаза. Он только теперь понял: вереницы саней, запрудившие улицы, – это же злой умысел. Это же заслон от конницы. Во все стороны – затор. Явится ополчение Ляпунова – ни к одним воротам не пробьешься, чтобы остановить, помешать…
Ротмистр не выдал себя ни испугом, ни поспешным приказом.
– Господа! – окликнул извозчиков. – Помогите поставить пушки на стены.
– Сыскал господ! – Извозчики кто посмеивался, кто помалкивал, а кто ухом не вел.
– Господа! Я понимаю, вы хотите денег. Заплачено будет тотчас.
Махонький Аника на лошадке, добытой еще в Тушине, подъехал ближе, выскочил из саней, подбежал к пушке и, навалясь на нее грудью, пыжился, виляя задом. Извозчики, глядя на озорника, закрывались рукавицами, чтоб смехом не прогневить поляков. Поднимали воротники на шубах, валились в сани.
Жолнеры подходили к ним, совали в руки серебряные денежки, но извозчики отворачивались.
– Быдло! – взвился Косаковский. – У них заговор!
Наотмашь ударил в лицо здоровенного детину. Извозчик уронил с руки варежку, схватился за разбитый нос, угнулся да и боднул ротмистра, и тоже в нос, в хрящик.
Жолнеры принялись дубасить мужичье кулаками, тыркать древками пик. Проняли. Извозчики за кнуты, поляки за сабли.
Махонький Аника слетел с ног от одного только дуновения. Полез между саней, где ужом, где клубочком. За спинами мужиков передохнул и опрометью – в церковь, к Лавру.
– Литва наших бьет! – А сам к дьякону: – Довольно глотку драть. Кулаки твои надобны.
Назад Аника не вернулся, на колокольню полез, трезвонить.
Бам-бам-бам-бам! – всполошилась Москва.
11
Кривой Салтыков, в шубе нараспашку, прибежал к наемникам.
– Никого не жалеть! Убьете мало – себя не пощадите!
На Красной площади бухали выстрелы.
– Сатана с вами, ребята! – Салтыков поднял руки и махнул одними кистями. – Режь собак! Собаки они! Собаки!
И немцы ринулись резать.
Сердце у Михаила Глебыча билось часто, как у крысы, пирующей на столе, пока не появились хозяева.
Поглядел на патриарший двор.
– Ты, Гермоген, виновен! За твое упрямство плата.
Михаила Глебыча била лихорадка. Ждал этого часа – умыть кровью русскую поганую рожу.
Восемь тысяч наемников, одетых в железо, закрыли все выходы из Китай-города и поротно отделывали один двор за другим. Дворы здесь были лучшие, боярские, народа в каждом десятками и сотнями.
Русские люди никогда не квитались за кровавый пир в Китай-городе. Ни слова нет в школьных книгах об убийцах и убиенных, не у каждого даже старого историка про то русское горе сыщешь полстроки в середине абзаца. То была бессмысленная, ничем не заслуженная пращурами кровавая купель. За русские деньги русских людей резали немцы, англичане, шотландцы, французы, голландцы, литовцы, поляки. Ах, как блюдут французы, лелеют в памяти Варфоломеевскую ночь! Три тысячи жизней – плата за верность своему толкованию Божественной истины. Но кто помянул когда утро 19 марта, день Смоленской иконы Божией Матери, именуемой «Умиление»? Эта святая икона была в смоленской осаде с воеводой Шеиным. В Москве святые иконы в тот день все были темны и все кресты померкли.
Семь тысяч жителей Китай-города были зарезаны за единый час. В той груде убитых князей Андрей Васильевич Голицын. Он сидел под домашним арестом. Не пощадили боярина, как не пощадили ни кухарок его, ни приютившихся на ночлег нищих…
Убийцы не были ни пьяны, ни злы. Им сказали – убейте много, и они сделали свою работу усердно и чисто.
Знайте, русские! Знайте, как ненавидит вас Европа за лицо ваше, за глаза ваши, за улыбку, за саму вашу жизнь. Помните 19 марта. Наемники вырезали бы всех до единого, поляки в дело вмешались. Миловали красавиц да едва расцветающих девочек. Этих ровняли с вещами, пригодятся для утехи, для обмена, для работы.
Наемники двинулись к Тверским воротам, но стрельцы в Белый город их не пустили. Наемники попятились, завернули на Сретенку, но здесь улица была перегорожена столами, сундуками, лавками, и на помощь горожанам поспел с дружиной князь Пожарский. Опережая немецкую пехоту и поляков, занял Дмитрий Михайлович Пушечный двор на Неглинной. Пушкари были за своих, выкатили медных кабанчиков и огненным боем вогнали всю иноземщину обратно в Китай-город.
Возле церкви Введения Богородицы из бревен, приготовленных для строительства дома, собрали острожек, и Пожарский сел в нем, отбивая атаки немцев.
Польские роты ударили на Кулишки. Дома разорили, людей порезали, но в Заяузье не прошли. Не пустил Иван Матвеевич Бутурлин.
– Мы сегодня не сумели разорвать окружение, а завтра придет Ляпунов, – сказал боярам Гонсевский. – Ступайте к народу, добивайтесь примирения… Помните не только клятву Владиславу, но и о своих семьях – кремлевские запасы невелики.
Князья Федор Иванович Мстиславский, Андрей Васильевич Трубецкой, Борис Михайлович Лыков, Иван Никитич Романов отправились к Никольским воротам увещевать народ Белого города.
Иван Семенович Куракин с думным дьяком, канцлером Семибоярщины Иваном Тарасьевичем Грамотиным да с дворецким Василием Михайловичем Рубцом-Масальским пошли звать патриарха.
Гермоген изменников к себе не допустил. Тогда на патриарший двор, как разъяренные львы, прибежали Салтыков с Гонсевским.
– Сегодня пролилось много русской крови, – говорил Гонсевский, – русской, драгоценной для вашего святейшества. Я в том пролитии неповинен. Побоище вспыхнуло как пожар, от искры ненависти. Но завтра, если москвичи не образумятся, убитых будет втрое и вчетверо. И ведь Москва деревянная. Война спалит ее, люди потеряют все, что имели.
– Зачем вы здесь, пан поляк? – спросил Гонсевского Гермоген. – Это не Польша. Уйдите, и будет мир.