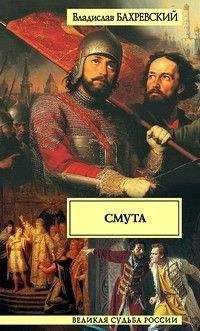– Зачем вы здесь, пан поляк? – спросил Гонсевского Гермоген. – Это не Польша. Уйдите, и будет мир.
– Но Москва поклонилась Владиславу.
– Царю польской крови поклонились, не царству Польскому.
– Салтыков прав, когда говорит о своем патриархе, что этот пастырь не слышит голос разума.
– Уйдите из Москвы, я выну воск из ушей моих.
Салтыков потерял терпение.
– Что с ним говорить по-хорошему! Слушай меня, Гермоген! Если ты не прикажешь народу утихомириться, если ты не отошлешь Ляпунова от Москвы прочь, я сам предам тебя злой смерти, ибо ты пастырь, губящий свое стадо. Опомнись, стадо твое не овцы – все ведь русские люди, наши с тобой соплеменники, родная кровь!
– Злая смерть от изменника – для меня желанный венец, – поклонился Михаилу Глебычу Гермоген. – Пострадать за правду – обрести вечную жизнь. Не приходите ко мне! Более вы от меня ни единого слова не услышите.
– Не будь здесь пана Гонсевского, ты бы у меня уже ноги протянул.
– Вот видите, ваше святейшество, – сказал Гонсевский, – вас придется охранять от ваших же православных овец. Ротмистр Малицкий, отведите патриарха на Кириллово подворье.
– Да не в келейку его, не в келейку! – крикнул Салтыков. – В подвал, крысы по нем больно соскучились.
12
Бояр народ слушать не стал.
– Вы – жиды, как и ваша Литва! – кричали москвичи предателям. – Пошли прочь! Не то шапками закидаем, рукавицами погоним.
Не испытывая народного терпения, бояре убрались.
Вечерело. Москва пахла кровью, но в Кремле шло веселье. Солдаты хвастали друг перед другом трофеями. На каждом ворох из жемчужных бус, все пальцы в кольцах, карманы набиты драгоценными запонами, камнями, перстеньками. Пьянствовать командиры не позволяли, вот-вот явится ополчение Ляпунова, но насиловать девочек и женщин не возбранялось. На женщин играли в карты, женщинами обменивались, женщинами платили за товар.
Гонсевский с Салтыковым сделали обход кремлевских башен.
– Чем это вы заряжаете ружья? – удивился Гонсевский.
– Жемчугом, – ответил, посмеиваясь, жолнер.
– Жемчугом?!
– Да у нас его целый сундук. Русский жемчуг, речной. – Разве жемчуг бьет вернее свинца?
– Свинец бережем. Жемчугом стрелять веселей. От него крика больше. Попадешь – москали катаются, воют.
Вернувшись в Грановитую палату, где уже собрались бояре и командиры, Гонсевский задал только один вопрос:
– Как нам избавиться от окружения?
– Надо выкурить бунтовщиков из Белого города, а особенно из Замоскворечья, – предложил Иван Никитич Романов.
– Как это выкурить?
– Зажечь Белый город.
– Сжечь Москву?! – удивился Гонсевский.
– Так еще по ночам морозы. Быстро шелковые станут, – поддакнул Романову Грамотин.
– Ночью по льду хорошо бы перейти в Замоскворечье да и запалить его со всех концов, – сказал Салтыков. – Замоскворечье стеной не обнесено. Через него и к Смоленску можно будет уйти, и подкрепления получить.
– Все ли так думают? – спросил Гонсевский бояр.
– Коли мы их не выкурим, они нас голодом уморят, – вздохнул князь Куракин, сподвижник Скопина-Шуйского, а ныне – такая же Семибоярщина.
Команды поджигателей были тотчас отправлены во все концы города и в Замоскворечье.
Салтыков глядел на Москву с Фроловской башни, ждал огня. Стреляли на Сретенке, в Охотном ряду. Кипел бой на Кулишках, но пламени нигде не видно было. Посланные в Замоскворечье вернулись ни с чем, воевода Колтовский кого побил, кого прогнал.
Вдруг засверкали частые зарницы со стороны Коломенской дороги.
– Ляпунов пожаловал, – доложили Михаилу Глебычу.
То был не Ляпунов, а всего лишь Иван Васильевич Плещеев с передовым отрядом.
– Ах, темно нынче в Москве! – сказал Салтыков. – Как бы Ляпунов в темноте дорогой не ошибся. Посветить ему надо.
Поляки не понимали, чего ради печется о Ляпунове Салтыков, но Михаил Глебыч знал, что говорил.
Со всем своим отрядом, тысячи в полторы, с ружьями, он, одолев небольшие заградительные отряды москвичей, пробился к своему родному гнездовью. Взял иконы, деньги, золото, соболя, весело перекрестился и приказал холопам:
– Зажигайте!
Воздух был влажный, бревна, оттаивая от зимних холодов, гореть не желали.
– В каретном сарае есть бочка смолы, облейте хоромы с четырех сторон, чтоб горели как свечка! – распорядился Михаил Глебыч.
Прикатили бочку, запахло, как в бору в солнцепек. Салтыков взял у холопа факел.
– Будем живы – наживем! Столько, полстолько да еще чуточку! – Засмеялся, ткнул факелом в смолу.
13
Среди весенней густой тьмы, объявшей мир, когда мороз, покряхтывая от немочи, примораживает ручьи и лужи к земле, Москва пламенела пламенами, словно спальня солнца.
Одно Замоскворечье было черно, но под утро там пошли просверки, и проникшие в Кремль тайные люди Гонсевского принесли весть:
– Пробивается к Москве полк пана Струся.
Гонсевский на радостях послал в Замоскворечье половину войска. В Замоскворечье были стрелецкие слободы, но ночью страхи и ужасы на стороне нападающего.
Поляки зажгли тын, устроили множество пожаров, и вспыхнуло Замоскворечье, как хорошо сложенный костер. Воинство и жители бежали в поле, а Струсь перешел по льду Москву-реку и соединился с Гонсевским.
Не устояла и Сретенка. Князь Пожарский был тяжко ранен, и его увезли в Троице-Сергиев монастырь. Князь плакал от своего бессилия…
Розовые сполохи московского огня бродили по снегам за многие версты от пожарища. Когда же настал день, огонь поник и смрадная, рыжая, сизо-брюхая клубящаяся туча накрыла стольный град. Поверх плавали купола Ивана Великого, Успенского да Архангельского соборов. Поля кругом Москвы чернели не от галок, от бездомных людей. Польское войско окружило погорельцев, началось горестное моление о пощаде.
Гонсевский пощадил, но приказал еще раз и воистину, а не ложно присягнуть Владиславу.
Присягнули.
Приказал всем подпоясаться полотенцами. Подпоясались. Иным пришлось исподние рубахи драть, чтоб пометить себя. То был Страстной четверток, и впереди Голгофа, ибо покорность врагу – страдание крестное.
14
Тьма окружала патриарха Гермогена. Он сидел на соломе, истлевшей, пахнущей мышами. О себе у него не было мыслей. Искал очами души своей спасительную икону Казанской Божией Матери. Он служил настоятелем храма Николы Тульского, когда в его приходе невинные детские руки на пожарище обрели сию драгоценность. Он держал икону в руках, он знал каждую жемчужину на ризе. Он помнил, где на глазах Богоматери-печальницы отблеск света, подающий надежду на исцеление от всех неминуемых бед. Но теперь – о грехи пастырские! – икона, вызванная молением, расплывалась. Она явилась не перед глазами, но стала у правого виска. Лик Богоматери ломался, как будто был колеблем неспокойной водой.
Гермоген отер глаза, но глаза были сухие. Плакала душа.
И увидел он в темном углу свет. И рассмотрел ризу. Риза, величиной с ладонь, росла на глазах, и уже недостало ей места под сводами подземелья, и она прошла сквозь своды, но ей и город был тесен, и она легла на землю. И росла, росла и сделалась больше земли – это русской-то земли! И воспряла, серебряная, жемчужная! Поместилась между землей и небом, и Казанская икона, стоявшая у правого виска, на огненных крыльях серафимов вознеслась в небо и соединилась с ризой.
Пал Гермоген ниц и тотчас почувствовал, что через него и по нему идут великие толпы людей. Он слышал хруст костей своих и чувствовал, как саднит кожа на руках. И не видел иконы, вдавленной в землю, и знал, что погиб, но, погибая, собирал последние крохи сил, чтобы хоть единым взглядом дотянуться до святыни. Ему наступили на шею, на плечи, на голову, но он, не оберегая более лица, повернулся и увидел! Риза поменяла серебро на золото. Золото сверкало, затмевая лик Богоматери и Богомладенца. Вся несметная чреда стремящихся взять у святыни святого припадала к иконе, и каждый, целуя, выкусывал из ризы жемчужину.
Тьма была черна, но светились меченные золотом, жующие жемчуг рты.
И тогда он стряхнул с себя стоящих на нем, будто они были листьями, упавшими осенью с дерева. Простирая руки, пошел к своей иконе, чтобы уберечь ее золото и ее жемчуг от святотатства. Икона меркла, сжималась и стала невидима, как невидимый град Китеж.
Гермоген очнулся.
В подземелье горели факелы. Ему что-то говорили. Он встал, пошел. Его привели в келью. Узкое, руки не протиснуть, окошко. Голая лавка. Стол на козлах. Вместо стула или скамьи – пень. На столе книга. В углу икона.
Загремели засовы.
Он сел на пень, не чуя себя. Ясно понимал: видение не о нынешнем бедствии… Толпы, попиравшие его плоть, – еще грядут. Еще грядет пожирание святого жемчуга, еще грядет исчезновение святыни с лица Русской земли.
Знал: покуда икона будет пребывать невидимой – тьма не отступит от Русской земли.
Взмолился: