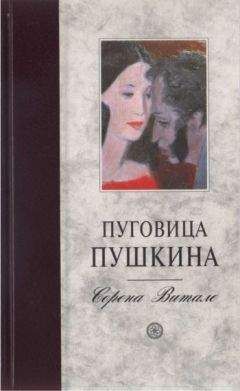Юные годы ее жизни прошли в Москве, в деревенских поместьях и в Полотняном заводе — процветающей фабрике, когда-то делавшей паруса для флота Петра I и теперь еще производившей лучшие в России ткань для парусов и бумагу. В начале девятнадцатого века все значительное состояние Гончаровых было поглощено продажами за долги, закладными и расточительством семейного патриарха — экстравагантного тирана, долги которого после смерти составили полтора миллиона рублей. В 1812 году дедушка Натали, Афанасий Николаевич Гончаров, не живший со своей душевнобольной женой, после долгого пребывания за границей вернулся с новой любовницей, некоей Бабеттой — или «этой французской прачкой» — как ее прозвали в богатеющем, роскошном семейном доме, все более раздираемом несогласием и ссорами из-за денег.
Николай, единственный сын Афанасия Гончарова, был внезапно отстранен от управления имуществом семьи и переехал в Москву вместе с женой и четырьмя маленькими детьми. Только Натали — тогда ее звали Таша, уменьшительное от Наташа, Наталья, любимая внучка деспота — осталась в Полотняном заводе. Но в один прекрасный день в возрасте шести или семи лет и прекрасную Ташу привезли в Москву. Ее соболью шубу, подарок деда, отняли у нее по приезде: мать сделала из нее муфты. Больше не было роскошной жизни с ее привилегиями и прелестями. Больше не было и Полотняного завода с сотнями слуг, огромными землями, оранжереей с персиками и ананасами, с играми на воздухе, с лошадьми, конюшнями и верховой ездой. Вместо этого ей пришлось привыкать к жесткой Дисциплине дома Гончаровых, управляемого непредсказуемой, авторитарной разочарованной женщиной, часто бывавшей жестокой и наверняка несчастной. Только изредка дети видели своего отца, «уничтоженную тварь», согласно его собственному описанию.
Николай Афанасьевич Гончаров, чье больное сознание было замутнено алкоголем, жил в крыле большого дома на Никитской улице, где его держали под замком, чтобы оградить домашних от вспышек его яростного гнева. В спокойные дни слышны были хватающие за сердце жалобные звуки его скрипки. Жена приходила взглянуть на него только по вечерам, и ходили слухи, что по ночам она навещала комнаты мужской прислуги; днем она лицемерно замаливала свои грехи в часовне, раздавала милостыню; она предоставляла пристанище странникам, нищим и юродивым во Христе. Свою материнскую власть она осуществляла через суровые наказания и запреты, частенько сопровождая их пощечинами. Она привила боязливое уважение к себе, в особенности своим дочерям, которые воспитывались в слепом и немом повиновении. Будучи не в состоянии должным образом распоряжаться своим наследством и ежегодной рентой, доставшейся ей от свекра, она со временем стала болезненно жадной. Она пила. Только для того, чтобы избежать ее постоянных жалоб, вспышек и ссор с нею, Пушкин и Натали через несколько месяцев после свадьбы переехали из Москвы в Царское Село. Оттуда они отправились в Петербург.
Долли Фикельмон, 26 октября 1831 года: «Наш второй grand soirée прошлым вечером прошел прекрасно: было много народу. Госпожа Пушкина, жена поэта, здесь впервые явилась в свете; она очень красива и во всем ее облике есть что-то поэтическое — ее стан великолепен. Черты лица правильны, рот изящен и взгляд, хотя и неопределенный, красив; в ее лице есть что-то кроткое и утонченное; я еще не знаю, как она разговаривает — ведь среди 150 человек вовсе не разговаривают, — но муж говорит, что она умна. Что до него, то он перестает быть поэтом в ее присутствии; мне показалось, что он вчера испытывал все мелкие ощущения, все возбуждение и волнение, какие чувствует муж, желающий, чтобы его жена имела успех в свете».
Она редко говорила на публике, и «женщины находили ее несколько странной». В перерывах между танцами она была молчаливой и робкой, потупляя свой газелий взгляд, голова слегка клонилась, возможно, под тяжестью самой красоты. Она была более оживленной в присутствии ее собственных друзей и друзей семьи — и тогда она говорила. Возможно, слишком много. Тогда казалось, что голоса других людей эхом отражались от хрупкого алебастра ее тела, лишенного собственной глубины и собственного звука. Своим друзьям, сестрам, тетке и мужу она пересказывала каждую галантность, каждый комплимент сонма поклонников, осаждавших ее в салонах. Она хвасталась своими постоянными неизменными триумфами в обществе, и ее глупое щебетание растапливало сердце Пушкина. Ему льстили восхищение и ухаживания других мужчин, но он всегда был настороже: «Я ждал от тебя грозы, ибо, по моему расчету, прежде воскресенья ты письма от меня не получила; а ты так тиха, так снисходительна, так забавна, что чудо. Что это значит? Уж не кокю ли я?» «Благодарю тебя за то, что ты обещаешься не кокетничать; хоть это я тебе и позволил, но все-таки лучше моим позволением тебе не пользоваться». «Я тебя… не браню. Все это в порядке вещей; будь молода, потому что ты молода — и царствуй, потому что ты прекрасна…Надеюсь, что ты передо мною чиста и права; и что мы свидимся, как расстались». Конечно, он ревновал. Но Пушкин бесконечно верил в добродетель своей «косой мадонны».
Его гораздо больше беспокоили некоторые привычки Натали, а не боязнь ее измены. Восхитительное создание, признанная королева Петербурга, тайная мечта стольких мужчин и предмет зависти стольких женщин — иногда в ней проступало что-то слишком простое и провинциальное, что-то от вкусов и привычек московской барышни. Он всегда прощал ее, но постоянно бранил, стараясь научить. Он говорил ей, что вульгарно отбивать поклонников у подруг, хвастаться своими победами, флиртовать с деревенскими помещиками, наносить визиты калужской матери-игуменье, посещать купеческих дочерей, толпиться в приемных вместе с заискивающими, бывать на фейерверках вместе с простолюдинами, навещать второразрядные салоны и танцевать в домах дворянок более чем сомнительной репутации. Бывали времена, когда его очаровательная жена напоминала ему тех женщин, которых князь Меттерних презрительно назвал «женщинками». Да она еще молода, думал Пушкин, и продолжал мягко посвящать ее в секреты духовной элегантности и тонкие ухищрения снобизма. Но он мог бывать и грубым:
Ты радуешься, что за тобою, как за сучкой, бегают кобели, подняв хвост трубочкой и понюхивая тебе з……; есть чему радоваться!., легко за собою приучить бегать холостых шаромыжников; стоит разгласить, что-де я большая охотница. Вот вся тайна кокетства. Было бы корыто, а свиньи будут. К чему тебе принимать мужчин, которые за тобою ухаживают? не знаешь, на кого нападешь. Прочти басню А. Измайлова о Фоме и Кузьме. Фома накормил Кузьму икрой и селедкой. Кузьма стал просить пить, а Фома не дал. Кузьма и прибил Фому как каналью. Из этого поэт выводит следующее нравоучение: красавицы! не кормите селедкой, если не хотите пить давать; не то можете наскочить на Кузьму. Видишь ли? Прошу, чтоб у меня не было этих академических завтраков. Теперь, мой ангел, целую тебя как ни в чем не бывало; и благодарю за то, что ты подробно и откровенно описываешь мне свою беспутную жизнь. Гуляй, женка; только не загуливайся и меня не забывай. Мочи нет, хочется увидать тебя причесанную à la Ninon; ты должна быть чудо как мила. Как ты прежде об этой старой к…. не подумала и не переняла у ней ее прическу? Опиши мне свое появление на балах, которые, как ты пишешь, вероятно, уже открылись.
В следующем письме он извинялся за свою несдержанность, но все же напомнил ей: «Нинон, у которой переняла ты прическу, говорила: „На сердце каждого мужчины выгравировано: самой доступной“… Подумай об этом хорошенько и не беспокой меня напрасно… К хлопотам, неразлучным с жизнию мужчины, не прибавляй беспокойств семейственных, ревности etc, etc».
Долли Фикельмон, 12 ноября 1831 года: «Поэтическая красота госпожи Пушкиной проникает до самого моего сердца. Есть что-то воздушное и трогательное во всем ее облике — эта женщина не будет счастлива, я в этом уверена! Она носит на челе печать страдания. Сейчас ей все улыбается, она совершенно счастлива, и жизнь открывается перед ней блестящая и радостная, а между тем голова ее склоняется, и весь ее облик как будто говорит: „я страдаю“. Но и какую же трудную предстоит ей нести судьбу — быть женою поэта, и такого поэта, как Пушкин».
В Петербурге Натали была приглашена ко двору и допущена в элитный кружок, созываемый в Аничковом дворце, частном особняке на Невском проспекте, где императрица давала волю своей страсти к танцам. Осенью 1835 года Александрина и Екатерина Гончаровы переехали к Натали и ее мужу; и сестер тоже нужно было вывозить в свет и выставлять на брачный аукцион. Каждый день бал, раут (торжественный прием без танцев), пьеса, концерт или собрание друзей. Кто-то пожаловался, что Наталья Николаевна по вечерам не бывает дома. Этот стиль жизни утомлял Пушкина. Когда ему случалось не сопровождать жену, он поручал ее мягкой опеке престарелой госпожи Загряжской, тетки Натали, пользовавшейся большим уважением при дворе и хорошо разбиравшейся в светской жизни. Но и в таких случаях он чувствовал себя беспокойно: