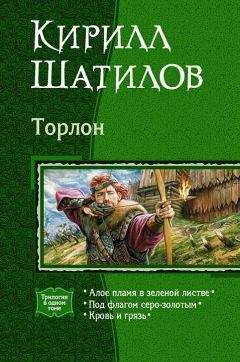13
В нарядной полутемной комнате работница протянула хозяйке богатое, в медовых прожилках янтарное ожерелье, поставила ногу на лавку и принялась с наслаждением чесать щиколотку под тугими завязками кожаных башмаков, в городе победнее Ладоги такие не всякая хозяйка себе позволит. Либуша поморщилась:
– Блохи у тебя! Наказывала же полынь с коноплей класть на постель, ленивая, что и ну! Мамка княгинина велела что передать, нет? Отпустило у нее спину-то? Довольна снадобьем? Должно быть, довольна, раз такое ожерелье прислала. Рассказывай, что видела.
Рыхлая девка шмыгнула носом, захлопала белесыми ресницами, уставилась на хозяйку, приоткрыв полные, словно напухшие губы.
– Забыла, что ль?
Девка мотает головой, не зная, как половчее рассказать все виденное и слышанное за день. Слишком много поручений, слишком много событий и людей. Один рынок чего стоит нынче. Пришли новые купеческие караваны, привезли товары. Синие стеклянные лунницы, прозрачные, как река по осени, меняют на пять черных куниц, розовые заморские раковины, сердоликовые бусины, а то еще из горного хрусталя бусы и янтарные, в точности как присланное ожерелье, а то тонко чеканенные копоушки-уховертки, чтоб уши лучше слушали да не болели по холоду, хитрые обереги на пояс и на плечо, бронзовые застежки и пояса с плашками меняют – не помнит, на что. А камка, объярь, жаркая парча, цветная пунцовая и лазоревая шерсть, а пряности и медь, а красная посуда, а скатерти с ромбами, не хуже, чем у хозяйки. А что оружия и всякого воинского снаряжения! А рыбы свежей, провесной, прутовой и вяленой! А живопросольной: окунь, сиги, белорыбица, сельди! А калачей, обсыпанных белой мукой, луковников и медовых маковок! А многоцветного платья и богатого узорочья! А невольников – что домашней птицы! А птицы, гладкой, пестрой и крикливой! И мехов: соболей и дорогих черных куниц, бобров, белок, лис и горностаев. И серебряных дирхем-кун, и витых гривен с молоточками Тора, и простых гривен на шею. Ай, дня не хватит рассказать, не то обойти все торжище. Рыжебородые краснорожие северные гости с весами и гирьками, чтоб мерить товар да обманывать, скалятся, пугают девку, степенные корелы в крашеных синих шерстяных рубахах шумят цепочками оберегов, востроглазые кривичи смущают бесстыжими речами, темные, как мохом обросшие, дреговичи глядят озойливо.
А слухи – богаче торговли, новости плотвичками играют в толпе, переплывают, подныривают от ряда к ряду. Еще не вернулись русы князя Олега из похода на Табаристан, не все еще взяли, есть в ладьях место для тканей и пряностей, для серебра и золота, вот и осели на островах в Русском море до следующего лета; а князь уж отправил других в греческую землю говорить о мире с византийскими царями и боярством. О мире, выгодном для Вещего Олега, Ладоги и новой столицы на юге. Князь Олег станет диктовать свою волю греческой земле, дрожавшей под крутыми грудями его ладей, что бежали посуху на колесах. Мир премудрые писцы запишут в грамотке на веки вечные, и будет мир нерушим, потому что вещий Олег прозорлив и силен. Следить за тем, чтобы все правильно, без обману было записано, отправил князь в Царьград хитрое посольство с толмачами и писцами-колбягами, есть там послы наследника князь-Игоря, и княгинь Ольги и Силкисиф, и всяких княжьих родственников и свойственников. Князь Олег не едет в Царьград сам, он будет в Ладоге к Перунову дню – дожидать грамоты о мире здесь, глядеть, как управляется с городом наследник, подколенный князь. А до этого на наш праздник, на веселый, на Купалу, князь Олег пришлет славного кощунника, не иначе – разведывать да запоминать. Кощунник станет петь былички и старые, и новые, и привезенные грецкие.
Ничего не говорит девка, не зная не то не помня половины услышанных в городе, на княжьем дворе и на рынке слов, молчит, склонив голову к сдобному плечу, коса болтается.
Либуша сама услышала, вытянула слова из тугого молчания, палец послюнила, свила в ровную нитку слухи и догадки, соткала полотно, оглядела узор, усмехнулась.
– Вон куда миленький мой Гудила поспешал, – только и промолвила.
Девка не поняла, села на лавку прямо при хозяйке, зевнула, закрыв рот ладонью от навьев, – уморилась. И то от хлопот уж тошненько, праздник на носу. В Ладоге русальцы каждый день пляшут на холме за околицей, свирцы дудят, звенят бубны и сковородки, девки пляшут и ратники пляшут с мечами, толпа кричит и вертится, пахнет распаренным березовым веником от молодых тел, распущенные рукава летят по ветру вильскими крыльями, косы струятся ковылем, вильской травой. Дождь прошел вчера, верно, кудесник какой волхвовал не ко времени, кудесникам – им лишь бы дождь вызвать, любят. Трава промокла от влаги небесной, промокли поневы и рубахи у баб и девок, лишь на спине остались сухие, потому что на спину падали после танца; и трава, на которую упадешь, под спиной – сухая, дождь шел недолго. А хоть недолго шел, но дети все равно родятся, много детей, от дождя всегда дети родятся.
Мальчик спал на лавке. Лицо его побледнело и осунулось, губы слабо шевелились. Он видел что-то недоступное Гудиле, что-то важное и, наверное, страшное. Может быть, навьи обступили найденыша, может быть, ему снился тот, кто разграбил его деревню и перебил род.
Гудила приложил ухо к сухим растрескавшимся губам отрока, но не смог разобрать ни слова. Опасливо озираясь, словно Вольх караулил за дверью, или стыдясь присматривающих за домом берегинь и маленького ужа, свернувшегося клубком за порогом, Гудила спросил, как спрашивал хозяин:
– Что видишь, найденыш?
Мальчик принялся отвечать ясно и отчетливо. Гудила вздрогнул от неожиданности, попятился, но любопытство пересилило, и через мгновение он жадно прислушивался к удивительной, недетски связной и образной речи.
– Вижу могучую седую реку и плоский холм у самого истока. На холме – круглое святилище без кровли. Большое святилище в двенадцать саженей с выступами-лепестками для жертвенных костров. В кольце костров, в короне огня Хозяин Волхов, сам Ящер на могучих задних лапах, в крупной чешуе, передние лапы свисают на широкую грудь. Серые ольховые колья за спиной его и колья по бокам. Отрубленные конские головы глядят с кольев на Хозяина. Зеленые мухи сидят на головах, чешут мохнатыми лапками сытые бока. Сидит Ящер, ждет жертву. Богатую жертву, с красными лентами в гриве, с заплетенным хвостом, с розовыми ноздрями и карими глазами. Жертву, откормленную хлебом и клевером, скакавшую в поле на свободе, ни разу не униженную седлом. Вот ведут ее с песнями и танцами к Ящеру, на шее у нее два жернова, голова густо намазана светлым луговым медом, тонко и жалобно ржет она, склоняя голову перед Волховом, и мед капает на песок, точно слезы. Вот подводят ее к реке…
Гудила в ужасе отшатнулся. Больше прочей живности любил лошадей, а сколько их вылечил, сколько жеребят принял, не счесть. И хоть много на своем веку видел крови и смертей, как всякий жрец, а все не привык. Красочное описание подействовало на него сильнее зрелища.
– Нет, малыш, не нуди слушать, замолчи! Потому из меня не вышло путного жреца. Не гожусь на такое дело, не могу нож поднять. Даже голубя не могу зарезать, понимаешь, даже петуха… То, с чем любой ребенок справится… А тут живая лошадь. Глазки у нее, вишь, карие… Но погоди, не мог ты такое видеть-то, не положено тебе. Да ты, коль верить Диру, и не из наших мест. А как Диру не верить, он врет лишь за плату, дело такое. Слышь, про лошадку-то пропусти, дальше давай, я ведь сам того святилища не видал, хотя где только не бродил. А ты вон как складно ведешь, как под гусельки.
Мальчик замолчал, вытянулся на лавке и лежал без движения.
– Ах ты, навьи чары… Все одно, порядок забываю. Как сказать-то надлежит? Как там Дир говорил…Что видишь, найденыш? – вопросил Гудила деревянным неестественным голосом, дабы придать больше силы словам.
– С правой стороны от Ящера в своем кругу суровая Мокошь. Рог изобилия в руке ее и все наши судьбы… С левой стороны, ближе к реке, светлая Лада с зеленой весной за плечами. Прекрасно лицо ее, и кольцо в руке ее. Туман опускается на святилища. Див, дух живого и неживого, закрывшись крылами, плачет на кудрявых деревах. Падает светлая Лада, падает Мокошь. Ящер со стоном и скрежетом кренится, подворачиваются мощные лапы, катится Ящер в глубокий ров и дальше, в реку. Несет его колдовская сила против быстрого течения вверх по реке, по всем поворотам, по порогам перекатывает, постукивает, извергает на берег напротив города. Высокую могилу насыпают над ним и празднуют городом богатую тризну, и на третий день проседает земля на могиле, и Мокошь ходит берегом в можжевеловой роще. Пожирает Мать Сыра Земля, которая сама одно из лиц Мокоши, тело Ящера, остается яма на том месте, где ссыпали над ним курган, и не наполняется яма, сколько ни бросай в нее песка ли, земли. Отделяется внешняя душа Ящера, ходит над рекой, ищет себе другого тела. И когда поднимается она летать в ирье, то вода в реке поднимается следом.